Чтение стало утешением
Что читали авторы «Горького» в 2025 году. Часть 2
По признанию многих авторов «Горького», в 2025 году особое внимание они уделяли книгам, либо пришедшим к нам из прошлого, либо рассказывающим о других, далеких от нашего, временах, — ведь «прошлое логичнее настоящего». Предлагаем вашему вниманию вторую часть наших авторско-читательских итогов года.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Филипп Никитин
В этом году мне хочется прокомментировать лишь часть прочитанных книг. Некоторые другие я просто перечислю.
⦁ Тимур Расулов. Поклонение во тьме. Размышления над книгой Иова
В первой половине уходящего года я ненадолго впал в состояние, которое нельзя назвать депрессивным, но которое точно имеет пересечение с депрессией. Я засыпал в 18:00–20:00, просыпался ночью или ранним утром, мало ел. В подобных состояниях я стараюсь себя чем-то занять. Получаю сообщение от друга: «Книга, которая меняет мировоззрение относительно справедливости Бога. Щас слушаю, очень советую». После этого сообщения я принялся за чтение.
Я неоднократно задавался вопросом: каков смысл жизни людей с точки зрения христианства? До прочтения этой книги я отвечал себе так: восстановление отношений людей (творений) и Бога (Творца), которые были до грехопадения. Книга Расулова открыла мне новую перспективу на эту тему: цель жизни людей с точки зрения христианства — прославлять Бога. Именно этого взгляда я придерживаюсь сейчас, и я благодарен автору за эту книгу. Если я когда-нибудь стану христианином, я вспомню об этой цели и буду стараться ее выполнять.
⦁ Тара Вестовер. Ученица
Литературный критик Егор Михайлов совершенно справедливо отозвался об этом тексте так: «Эта книга совсем не о том, как одаренная девушка вырвалась из семьи религиозных фанатиков и получила хорошее образование, — а о том, как тяжело ей это далось. Тяжелая и некомфортная история о трудном пути, который стоит того, чтобы пройти его».
Эта книга — про власть прошлого над человеком. Она показывает, что человек может понимать: прошлое — оно плохое. Но, понимая это, все равно идти ему навстречу. Ты можешь измениться, переехать в другой город, окружить себя новыми людьми. Но прошлое тебя все равно настигнет. Из его власти можно вырваться, но будет больно. И потребуется время.
Эта книга показала мне природу ПТСР, рассказала о чуткости к таким людям. Книга учит таких людей любить. Это тяжелая книга. Я помню, как ехал в автобусе по Москве, читал ее, а по моей щеке стекала слеза.
⦁ Мария Степанова. Памяти памяти
Это, конечно, великая книга, о которой много написано. Изучая написанное, я впервые столкнулся с ситуацией, когда ученый пишет рецензию на книгу, которая не позиционируется как научная. Я говорю о рецензии Мириам Добсон, опубликованной в London Review of Books.
«Памяти памяти» показала мне, каким красивым может быть язык. Степанова виртуозно работает с ним и мастерски оттачивает текст. Никто из прочитанных мной когда-либо авторов не работал с языком так прекрасно, как она.
Делюсь небольшим фрагментом книги:
«Фотография дает ощущение точного знания — и, как правило, лжет при этом. Ее великая иллюзия держится на человеческом самообмане: кто из нас не „догадался обо всем“ по выражению лица собеседника и не делал шерлокхолмсовских выводов по поводу одежды ближнего своего?»
В этом году мне нужно было сделать подарок одному человеку, занимающему важное место в моей жизни. Думал, думал и в итоге подарил эту книгу.
В уходящем году меня сопровождали также вот эти книги: «Никодим, фарисей» (Мигель де Унамуно), «Такого света в мире не было до появления N» (Оксана Васякина), «Целеустремленная жизнь» (Рик Уоррен), «Белая мечеть. Мир, который уцелел. Куда ведет Шелковый путь» (София Саматар), «Байки книготорговца» (Елена Нещерет), «Политическая теология между Египтом и Израилем» (Ян Ассман), «Утопия в снегах. Социально-архитектурные эксперименты в Сибири, 1910–1930-е» (Иван Атапин), «Незабываемые страницы. История Каршинской церкви ЕХБ» (Ирина Ветлужская).
Апостол Павел продолжает меня интересовать. Сейчас читаю книгу «Савл из Тарса. Биография апостола Павла» (Эдуард Лозе). Закончу ее уже в новом году.
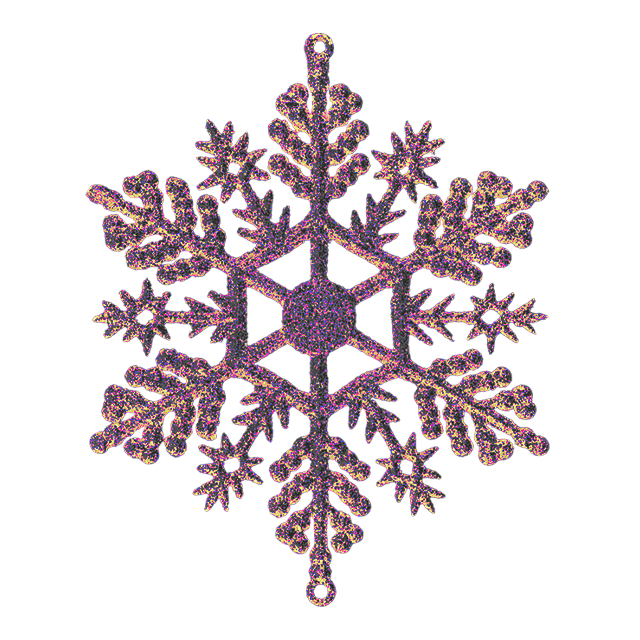
Николай Канунников
Ревизию книжного списка сложно проводить в отрыве от путешествий. Как правило, за книгу берешься в дороге.
Книжный год закольцевался Иваном Тургеневым: начался с «Записок охотника» (образец той прозы, которой часто не хватает: децентрализованной, провинциальной) в Калуге и кончается «Дворянским гнездом» (текстом, после которого слетает постмодернистская пыль и снова обретаешь способность говорить о сокровенном) между Тулой и Москвой.
Во время путешествия в Астрахань и Минеральные Воды в рюкзаке лежал «Потерянный рай» Джона Мильтона. Литературные свидетельства раннего Нового времени особенно милы: это неочевидное прощание с многовековой традицией и образом жизни Средних веков и приветствие будущего, которое для нас, читателей, давно современность.
Во время поездки в электричке Тула — Алексин читал «Берлинское детство на рубеже веков» Вальтера Беньямина. Когда впервые сталкиваешься с его подходом к письму, то оказываешься не меньше чем оглушен этой полифонией города детства — все важно: и балкон, и парк, и белье в комоде. Ничего не вязнет в прошлом зря, и это успокаивает.
Гуляя неподалеку от речного вокзала Казани, читал «Инстинкт мастерства» Торстейна Веблена. Эстетика заброшенных промышленных окраин, нервообразного сплетения ж/д путей располагает к чтению этой позитивистской работы, одной из важных для современной социологии и экономики.
В перемещениях между Тулой, Москвой, Петербургом и Минском (в духе юного повесы) в сумке пренепременно лежала «Алхимия советской индустриализации» Елены Осокиной, а потом — «Счастливый человек» Джона Бёрджера. Тематически эти работы почти не связаны, но любопытно подумать над тем, как менялась глубинка в разных концах Европы. Особое удовольствие, искупавшись в пруду напротив Несвижского замка, возвращаться к станции, разглядывать поля и размышлять о центре и периферии.
Среди других книг одна будет выделяться. Это «Дом тишины» Орхана Памука. Представить идеальные дни несложно: побережье Средиземного моря, полутуристическая провинция, маленькие ритуалы и ветхий дом. И все это оттенено меланхолией пришедшей современности — вот фабрики на месте черешневых садов, вот санатории, куда отправляют лечиться вчерашних крестьян, — а вот обломки прошлого, где все на своих местах. Самый юношеский роман Памука.
Книжные запасы, конечно, не иссякнут — и этим сокровищем человек обрастает, где бы ни жил. Книга — портал в другие миры, но раз от раза удивляет, что порой именно по прочитанной книге вспоминаешь события своей жизни. Совершая воображаемое путешествие в Берлин, пригороды Стамбула, английскую глушь, орловские деревни или в Помпеи (благодаря «Музею апокалипсиса» Габриэля Цухтригеля) вдруг возвращаешься к себе. Как будто обошел Землю по экватору и вернулся в точку ноль-ноль.
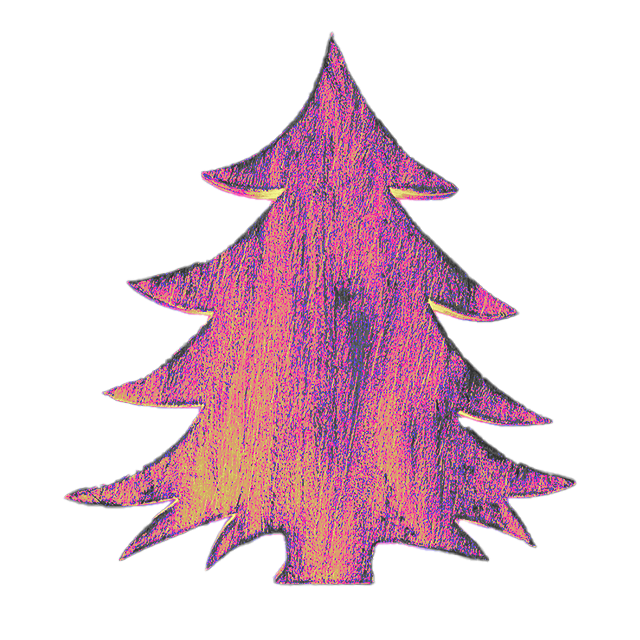
Анастасия Рыбицкая
«Иногда едешь открывать Индию, а обнаруживаешь себя в Америке», — замечает Дмитрий Крымов в заметках к своим спектаклям. Увидела эти слова и поняла, что именно так хочется охарактеризовать уходящий год — все складывалось непредсказуемо. Читаю я много, иногда бессистемно, но постоянная тревога, спутница последних лет, меняет и отношение к книгам: что-то кажется неинтересным, ненужным, неважным, что-то перестает нравиться.
Самым сильным впечатлением года стали роман Еганы Джаббаровой «Terra Nullius» и сборник рассказов О. Васякиной «Такого света в мире не было до появления N.». Об этих книгах я написала для «Горького», повторяться не буду. Это удивительные работы.
В дневниковых записях Дмитрия Крымова «Новый курс: разговоры с самим собой», которые я большим удовольствием прочитала, режиссер размышляет о постановках, оставляет их первые наброски. Здесь и заметки о несделанных спектаклях, и просто идеи, и «мысли». Что за «чистый ритм» спектакля? Как найти «волну», которая не окатит зрителя ледяной водой, а задаст нужную атмосферу? Как сохранить текст, но отнестись к нему достаточно вольно? Этот последний вопрос — важная характеристика творчества Крымова. Вольность не небрежность, эти записи — свидетельство глубокого прочтения хрестоматийных произведений.
Запомнилось, что в «Безприданнице» (старое правописание названия пьесы Крымов сохраняет) режиссер переносит действие в дешевое кафе где-то на Волге, на стене которого висит телевизор, транслирующий матч Россия — Голландия. Лариса застрелится во время матча, на нее и внимание не обратят: Россия же выиграла! Очень сильно. Или «путаница из всего» в работе «„Евгений Онегин“. Своими словами»: «взахлеб» (важное для режиссера слово не только в этом спектакле) нужно будет, будто ребенок, вернувшийся из «Детского мира», рассказать про сыр, про дядю, про сон Татьяны. Как только такое приходит в голову! Далее замысел спектаклей часто меняется, но запечатление этого первого отблеска подобно документированию чуда: мгновение — и все изменится. Непредсказуемость Крымова, его игра с сюжетом, «художественное безумие», — хулиганство настоящего мастера. За словами «Нового курса» мне мерещится что-то еще: я словно успеваю ухватить нечто очень важное, чему никак не могу подобрать название, — мучительное чувство.
С интересом прочитала книгу немецкого писателя и журналиста Уве Витштока «Февраль 1933. Зима немецкой литературы». Четыре недели и два дня, наступившие после 30 января 1933 года, дня, когда Адольф Гитлер становится канцлером Германии, — трагедия не только для Веймарской республики, но и для всего мира. Как в это время обстоят дела у обычных граждан? Кажется, жители Берлина живут привычной жизнью: где-то стреляют, что-то запрещают, вводят какие-то новые правила, кого-то убивают, но в целом терпимо. Небывалые холода в Берлине постепенно превращаются в метафору всеобщего оцепенения, а сводка о заболевших гриппом прилежно прикладывается Витштоком к каждой главе: это не просто эпидемия гриппа, это — национальная беда, растущая на фоне холода и быстро распространяющегося вируса, она сама страшный вирус. «Память о прошлом бесполезна, — замечает Витшток, — если использовать ее для возведения непреодолимой стены между злом и нами, для отождествления себя исключительно с непорочными героями и невинными жертвами и исключения агентов зла из человеческой среды». Много об этом размышляю.
Отмечу роман «Улица Холодова» Евгении Некрасовой. За творчеством Некрасовой слежу давно, современная женская литература — предмет моего особого внимания. Запомнился сборник рассказов «Золотинка» (и центральный рассказ этого сборника) — яркое, самобытное произведение, продолжением которого является, на мой взгляд, сборник рассказов «Адвокатка Бабы-Яги». Роман «Улица Холодова» — это автофикшн, в котором Некрасова размышляет о себе и о России девяностых — двухтысячных сквозь образ Дмитрия Холодова, молодого журналиста, погибшего на работе от взрыва мины-ловушки в 1994 году. Это странное и неспокойное время, в котором все не устроено, но и возможно всё, время, в котором много насилия, а война — полноправный герой романа, где погибает Анна Политковская, а Лена Костюченко* «инициируется» через репортажи Холодова, многое объясняет в дне сегодняшнем.
Открыла для себя записи Веры Инбер («Почти три года. Ленинградский дневник»). Этот дневник полон силы вопреки всему: в Филармонии будут звучать Чайковский и Бетховен, главврач больницы защитит диссертацию в бомбоубежище во время обстрела, собака Динка будет тихо дрожать у входа, ночь «беспросветная, черная, с завыванием сирен» будет таить смертельную опасность, а люди будут сопротивляться.
Успела прочитать книгу Александра Горбачева* «Он увидел солнце: Егор Летов и его время». В 2023 году Горбачев рассказывал о замысле книги, посвященной Егору Летову, в эпизодах подкаста «Он увидел солнце», а в 2025-м книга наконец вышла. Биография музыканта встроена в историю 1980–1990-х в СССР/РФ: это не только Летов, это и советская карательная психиатрия, и хрущевская реформа физико-математических школ, и Лимонов с Дугиным. Маргинал, радикал, империалист Летов, очень разный и очень сложный, — а я об этом времени имею довольно смутное представление, — потому многое из книги стало для меня откровением.
Прочитала книгу А. Н. Архангельского* «Короче, Пушкин». Все, что делает Александр Николаевич, у меня вызывает глубокое уважение. Это легкая, глубокая, прекрасная книга о Пушкине — человеке, в жизни которого было много противоречий, но неизменной оставалась верность творческой свободе. Чтение этой книги стало утешением.
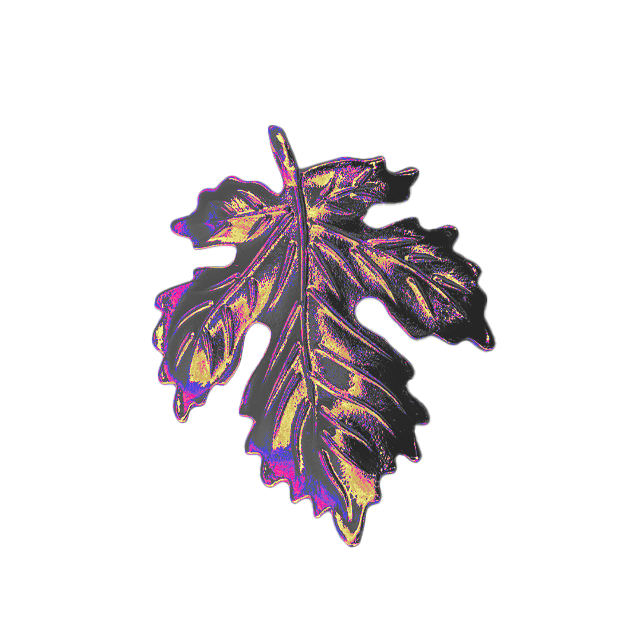
Полина Табакова
Так случилось, что в этом году главным критерием при выборе книг для меня становилась их жизнеустойчивость. Ретроспективно глядя на список прочитанного, я понимаю, что всегда искала в тексте какого-то заполнения пустот в повседневности, прояснения ситуаций и подходящих слов. Если книга не могла справиться с реальностью или хотя бы выдержать ее тон, то в большинстве случаев откладывалась на долгое потом.
Чтение поэтому становилось внешне беспорядочным, но по-своему логичным моей личной действительности. Зимой я часто страдала от бессонницы и навязчивой любовной страсти, поэтому попеременно открывала то феминистскую критику, то Анни Эрно с Клариси Лиспектор. Наконец дочитала «Второй пол» Симоны де Бовуар и дневники Сильвии Плат (подобное сочетание, кажется, особенно опасно, если немножко страдать). С нобелевскими лауреатами у меня редко складывается, но «Событие» и «Обыкновенная страсть» Эрно с их надломленной юностью и вывернутой женской телесностью — открытие темных вечеров с душными батареями. А «Живой водой» Лиспектор я лечила (и всем советую) страх утраты и расставания.
В попытках выискивания оправданий собственному жизненному безрассудству я в один заход прочитала всего Милана Кундеру, уверяя себя в существовании судьбы, предопределения и рока. А «Невыносимая легкость бытия» с чешскими протестами и могильниками, словарями непонятных слов с выведенным первым «женщина» до сих цитируется мною в любом неприличном обществе.
В весенний период я особенно заинтересовалась категориями насилия и сакрального, а также любого рода божественной любовью. Видимо, это довольно логичное следствие холодных месяцев — авитаминоз и тайное желание принять постриг. Не последнюю роль сыграло и обсуждение «Андрея Рублева» Тарковского около сумеречного Покрова на Нерли с интеллигентной женатой парой паломников. Из запоминающихся литературных событий здесь «Насилие и священное» Рене Жирара, «Небожественное сакральное» Сергея Зенкина, а еще хулиганский «Иконографический беспредел» Сергея Зотова.
Примерно в это же время я открыла верный способ уснуть в 4 утра и принимала дозу «Смеха в Древней Руси» Лихачева каждые несколько дней. Точно не скажу, почему кромешный мир и опричнина оказывают снотворное действие. Возможно, письменное подтверждение карнавальности и пародийности жизни все-таки действует успокаивающе.
«Неаполитанский квартет» Элены Ферранте — желательно поближе к морю или хотя бы к реке — пронзительный летний опыт осмысления (совсем не мифической и долгой) женской дружбы. В жаркие дни также были предприняты попытки всяческих философских ухищрений, к чему зной не всегда располагал. Запомнился чудесно емкий эксплейнер «В чем истина?» Максимилиана Неаполитанского и попытки серийно скупить все переиздания Мишеля Фуко от Ad Marginem.
Читался и перечитывался Вампилов, заводились разговоры о подсадных утках, и драма вытеснялась в исключительно литературное пространство. К опыту русского загородного отдыха добавлялись и «Школа для дураков» Саши Соколова, и попытки понять природу блина с огнем в особом пространстве «Москвы — Петушков» Венедикта Ерофеева.
К осени было принято решение трактовать реальность через леденящую иронию «Банальности зла» Ханны Арендт и культурное отчаяние «Распознавания» Уильяма Гэддиса. Из прочтения книжных журнальных списков года и всяческих шорт-листов премий запомнилась «Земля под снегом» Эндрю Миллера. На фоне всех мифологических ретеллингов открыла для себя канадскую эллинистку Энн Карсон и несколько недель ходила в восхищении перед «Men in the Off Hours», в особенности стихотворным циклом «Hopper: Confessions» с его неуловимой игрой августинской поэзии времени и хопперовского неонового ожидания.
В общей сути книги дополняли реальность тем, что из нее ранее было изъято или вообще включено не было.
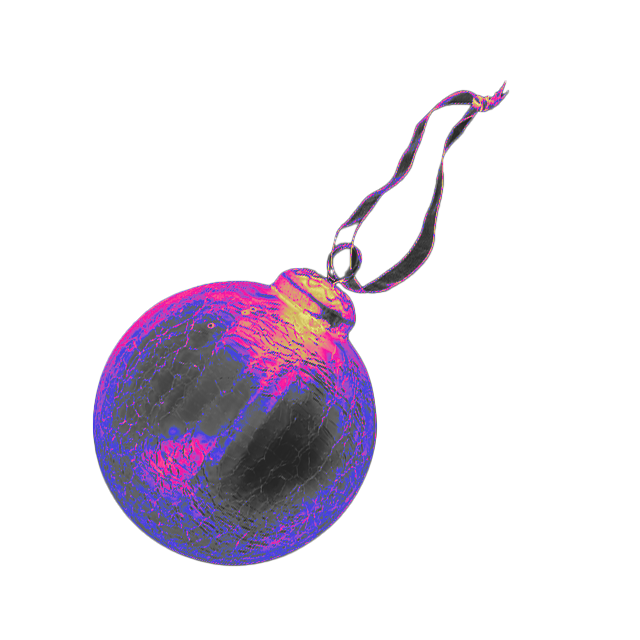
Дарья Петропавловская
В этом году в мой краткий список итогов года — вновь — вошли исключительно англоязычные авторы. Год начался с чудесного романа Салмана Рушди «Дети полуночи» в грандиозном издании от Corpus 2023 года. Несмотря на монструозный объем, роман читается на одном дыхании — отчасти потому, что представляет собой хороший микс из всем известных жанров: любители исторических хроник найдут личное переживание по поводу разделения Британской Индии в 1947 году, почитатели семейных саг — подробную летопись семьи главного героя, Салема Синая, а фанаты Маркеса и магического реализма получат свою долю волшебных необъяснимых событий. Иногда, конечно, сильно бросается в глаза, какую традицию хочет продолжать автор: пристальное внимание к оголенной физиологии и телесности в совокупности с главным героем-мальчиком не может не напоминать слог небезызвестного грассовского Оскара из «Жестяного барабана», а некоторые сюжетные находки кажутся просто индийскими вариантами латиноамериканских магических историй. Но самое главное — роман показывает историю страны через восприятие одного маленького человека и поднимает важный вопрос: каково это лично быть свидетелем такого грандиозного и ужасного события, как разделение некогда единой страны. Вопрос, на который все дети-современники нового мира, все «дети полуночи», должны найти свой личный ответ.
Другой важной книгой стали дневниковые записи Сьюзен Сонтаг, «Заново рожденная» и «Сознание, прикованное к плоти», опубликованные в издательстве Ad Marginem в новом оформлении в 2024 году. Сонтаг последние несколько лет (во многом благодаря тому же издательству) находится в зените своей популярности у русскоязычных читателей: культурологические эссе, работы, посвященные фотографии, феминистские высказывания — вот на какие составляющие «разбирается» философ в общественном сознании. Отсюда — большой интерес к самой личности, не спрятанной за маской критической мысли. Дневники — подзабытый в современном мире автофикшна жанр — начинаются в 1947 году, в возрасте 14 лет Сьюзен записывает: «единственное различие между людьми состоит в уровне интеллекта». Интересно, что книга, которую редактировал сын Сонтаг, написавший и очень теплое искреннее предисловие, не стремится вылепить образ успешного критика или подающего надежды литератора, который излагает любую мысль особым художественно-выверенным языком. Наоборот, дневники походят на настоящие записные книжки, в которых можно встретить список фильмов к ближайшему просмотру, цитаты из прочитанных книг, напоминания о встречах с сыном и обрывочные записи снов. Возможно, при таком повествовании сложно выстроить единый образ или проследить некую идейную эволюцию, зато образуется возможность заглянуть через плечо в открытую страницу личного дневника, который не терпит прямых строк и упорядоченных записей.
Среди последних больших рекомендаций хотелось бы выделить два разных англоязычных романа — «Бесчестье» Дж. М. Кутзее и «Стеклянный город» Пола Остера. Первый — роман южноафриканского писателя, недавно вновь переизданный на русском языке (М.: Дом историй, 2023), заглядывающий в самую глубь понятия чести и позора. Произведение начинается как классический «университетский роман»: преподаватель истории литературы, большой поклонник Озерной школы и Вордсворта, проматывает свою профессорскую жизнь на кампусе в Кейптауне. Но чем дальше герой отъезжает от столицы ЮАР, тем глубже уходит он от классического понимания проблемы бесчестия: оно расширяется, изменяется и теряет привычные границы. Бесчестье телесное, завязанное на сексуальном, вырастает до проблемы осквернения языкового, и тут все, и герои, и читатели, упираются в вопрос о том, какой опыт и каким языком мы можем выразить.
Второй же роман, «Стеклянный город» Пола Остера, достаточно часто издающийся на русском языке, делает более широкий и, бесспорно, более постмодернистский шаг за рамки любых моральных принципов и рассказывает о проблеме подмены личности и ее потери. Книжный пример постмодернистской игры здесь раскрывается на всех уровнях: главный герой, писатель, скрывающийся под псевдонимом, оказывается ошибочно (хотя вопрос ошибки так и повисает в воздухе) принят за детективного агента, которого — о, чудо! — зовут именем реального автора романа, Полом Остером. Но произведение, конечно, не заканчивается на этом бесконечном маскараде: важным мотивом становится блуждание-фланирование-дрейф по Нью-Йорку, сначала в погоне за мнимыми подозреваемыми, а потом в попытке все накопленное не растерять. Главный герой — Дэниел Куин — вынужден безостановочно двигаться в своем псевдореальном расследовании, и такой же сюжетный темп поневоле приходится соблюдать и читателю.
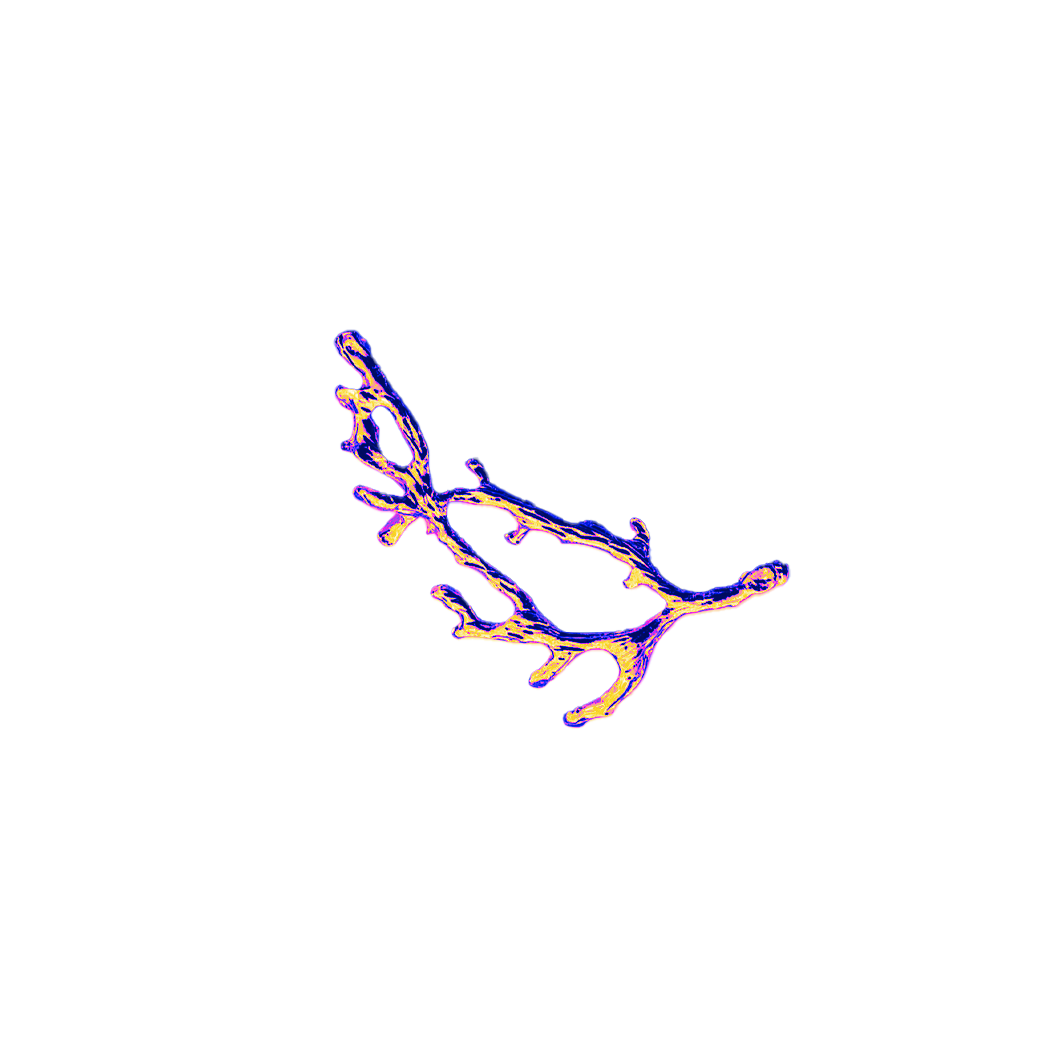
Артем Роганов
В уходящем году я больше всего погружался в современную русскую прозу, причем общая тенденция к росту популярности жанровых историй отразилась и на моем чтении: я искал книги, где жанровый шаблон так или иначе преломлялся, обыгрывался или получал уникальное наполнение.
2025 год начался для меня с литературы для подростков и янг-эдалта. Повесть Галы Узрютовой «Я с вами не разговариваю» особенно запомнилась удачным изображением атмосферы конца девяностых. В повести показаны кризис девяносто восьмого года и его последствия глазами старшеклассницы Жени, которая страдает от избирательной немоты. Избирательная немота как образ вообще кажется сильной находкой, когда мы говорим о переломных моментах истории и социальных сдвигах, обращаясь к опыту обычных людей. Классический постапокалипсис для подростков — «Пожирающий» Полины Щербак — тоже вошел в число полюбившихся мне текстов, и он тоже во многом посвящен нашей способности говорить и слушать, преодолевать ненависть с помощью речи.
Главным фэнтези-романом года для меня оказалась прочитанная на исходе зимы книга Анны Бауэр «Слово Вирявы» — динамичная, остросюжетная история с оригинальным сеттингом на основе эрзянской мифологии. Обращаясь к культуре эрзян и мокшан, Бауэр выстраивает убедительный магический мир, который проработан также и лингвистически, что сегодня в фэнтези встречается не так уж часто.
Что касается научной фантастики, здесь я впервые за долгое время солидарен с выбором жюри премии «Большая книга». «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина стала для меня, пожалуй, главной книгой года, по крайней мере если говорить об идейной составляющей. А как сюжетно более традиционный и просто на редкость увлекательный роман я бы отметил «Bookship. Последний книжный магазин во Вселенной» Марии Закрученко.
Есть ощущение, что снова растет интерес писателей к нуару. В моей личной номинации «Самая яркая литературная композиция года» побеждает вполне нуарный «Тонкий дом» Ярослава Жаворонкова. Реквием по мечте юных покорителей русского мегаполиса, роман со множеством временных и пространственных скачков, построенный как сложная мозаика, производит впечатление хитрой паутины, мрачной игры, в которую трудно не втянуться. «Смеси и мрази» Степана Гаврилова заигрывают с нуаром вовсе напрямую, однако в итоге приближаются к социальному высказыванию. Ближе к финалу истории Гаврилов как будто предлагает поразмышлять, как пережить вероятно уже наступающий нам на пятки глобальный «кризис всего». Любовь и деньги как ключевые, по-настоящему неизбывные традиционные ценности в романе оказываются непрочным подспорьем для преодоления кризиса, в отличие от солидарности страт и профессиональных сообществ. Это выглядит гипотезой довольно правдивой, хоть и не внушающей оптимизма, потому что предпосылок для возникновения подобной солидарности сейчас видится не так уж много.
Под конец года большой литературной радостью для меня стала «Крууга» Анны Лужбиной, история в стиле магического реализма о карельской деревне, где эпитет «магический» касается скорее стиля, чем сюжета. Это мое главное в году стилистическое открытие — замечательно написанный текст, образный и при этом ясный в деталях, тщательно избегающий и клише, и вычурности, разговаривающий о недалеком прошлом, во многом сформировавшем наше настоящее. В похожем ключе, через фактуру нулевых, обращается к читателю и «Раз, два, три — замри» Ольги Аристовой — психологически очень точная, бьющая в больные места поэма в прозе о взрослении девочек на Дальнем Востоке, о том, как повседневное насилие парадоксальным образом шло рука об руку с мечтой о гламурной жизни.
К Новому году у меня складывается впечатление, что кризис и возможные пути выхода из него становятся основной подспудной темой в современной русской литературе. Будь то кризис личный, социально-экономический или экзистенциально-философский, как в «Сороке на виселице» Веркина, возможный кризис будущего, как у Гаврилова, или поколенческий кризис прошлого, как у Аристовой, — авторов все чаще волнует вопрос, как именно человеку избавиться от обступившего его или поселившегося в нем несчастья.

Валерий Шлыков
Если жизнь, согласно известной формуле, — это сон, то чтение, несомненно, практика осознанного сновидения. Вольно перемещаясь по библиотеке, ты выбираешь не просто сюжет очередного «сна», но много больше. Достаточно вспомнить, что и сюжет, и субъект — термины одного происхождения, чтобы понять: в конечном итоге ты выбираешь субъекта, то есть самого себя.
Так уж случилось, что этот год (да и бо́льшая часть прошлого) прошел для меня под созвездием немецкого идеализма. Продираясь, как некогда Квинтилий Вар, сквозь тевтобургский лес тевтонского мышления, я проштудировал три Кантовы «Критики», «Общее наукоучение» Фихте с прилегающими трактатами, «Систему трансцендентального идеализма», «Изложение моей системы философии» и «Философию искусства» Шеллинга. Эти мыслители открыли то важнейшее обстоятельство, что объект нам никогда не дан сам собой, но конструируется субъектом, равно как и субъект не дан, но полагает самого себя в своей деятельности. Что ставит во главу угла не теоретическую, познавательную сторону деятельности субъекта, а практическую, или этическую.
Вся европейская культура последних двух веков есть комментарий, прояснение, апробация этих фундаментальных положений. Объективность нравственного долга, столкновение внешнего мира необходимости и внутреннего мира свободы, пределы индивидуальной воли стали «жизненносущными» вопросами для людей эпохи модерна и, конечно, ее литераторов. Сегодня, когда интенсивность подобных конфликтов значительно спала и населением завладел тепленький коммунальный конформизм, пожалуй, сходу трудно и понять, что же двигало героями тех лет, ибо они отдалились от нас на расстояние не меньшее, чем персонажи античной трагедии.
Подтверждение этих мыслей я нашел в двухтомнике Джозефа Конрада издания 1959 года (с очаровательным написанием «террьер», «бакан» и «бёнгало»). Известный своей морской тематикой, Конрад пишет вовсе не о море, а о людях, для которых море — «пробный камень» души. Что отличает Лорда Джима из одноименного романа или капитана Уолея из повести «Конец рабства» — так это их несгибаемый характер, внутренний барометр, безукоризненно различающий свободу и рабство, благородство и подлость, долг и приспособленчество. Шеллинг, анализируя греческую трагедию, подмечает, что ее суть в противостоянии необходимости и свободы, причем обе не могут проиграть. Именно так и построены произведения Конрада. Неизбежным для капитана Уолея являются его старость и слепота, свободой же — его морская жизнь, его капитанство. Как и античные герои, он борется до конца, в конце уступая. Но поражения нет, ведь триумф свободы не в том, чтобы одолеть неизбежность (это невозможно, на то она и неизбежность), а в том, чтобы свободно, по доброй воле принять ее как свою судьбу.
Полностью адекватны сказанному и герои Александра Грина. Его шеститомник 1980 года (пожалуй, наиболее оптимальный по составу: в шеститомнике 1965 года нет нескольких важных рассказов, а в шеститомник 1993 года, наоборот, включены откровенно слабые тексты) я «пил» смакуя, словно бокал заморского хереса. Грин был невероятно разносторонним писателем (кто зачисляет его, как и Конрада, скопом в «неоромантизм», ни черта в нем не понимает). У него есть произведения в жанре «магического реализма» («Путь»), беспощадный философский анализ современности в духе Сигизмунда Кржижановского («Серый автомобиль» и «Возвращенный ад»), постмодернистские кунштюки («Убийство в Кунст-Фише»), ироничные безделушки а-ля О’Генри («Табу»), закос под ницшеанского Заратустру («Наследство Пик-Мика»), психологический (а так и хочется сказать, психотический) реализм («Окно в лесу») и, конечно же, предельно символические, будто из средних веков, вещи — наиболее совершенные его творения. К числу последних относятся новеллы «Крысолов» и «Дьявол Оранжевых Вод», романы «Золотая цепь» и «Блистающий мир». Разберем для примера последний.
Бытует мнение, что этот роман представляет из себя наивно-романтическую фантастику про загадочно-летающего человека и двух разных, но равно очаровательных девушек. Большей нелепости не придумаешь. На самом деле никаких людей там нет, а есть символическое описание духа и двух типов души. Суть духа, как определили еще Фихте и Шеллинг, есть свобода и творчество. У Грина это выразилось в образе свободного, не скованного никакими законами физики, не объясняемого ничем внешним полета. И это все, что известно о Друде: нам не дают его психологического портрета, истории, тем более быта. Ибо это ничего не скажет о духе, только исказит его. Другое дело — душа. Душа — это как раз и есть впечатления, чувства, переживания, воспоминания, ценности. И обустроенный всем этим быт, конечно. Поэтому о девушках нам говорят много, обстоятельно, с тончайшими нюансами. Они — главные героини романа.
В полном соответствии с кантовской формулой «мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы» Грин выстраивает и отношения духа с душой. Дух без души пуст, душа без духа слепа. Именно поэтому Друд спускается в наш мир, ища подругу. Душе вольно отринуть дух, остаться в мире, желая власти над ним, и тем самым духовно ослепнуть, думая, что дух навсегда мертв. Такова Руна. Или же, как Тави, принять его и покинуть земные соблазны, создав собственный, одухотворенный, «блистающий» мир. Ведь сам по себе дух на это не способен. Для Грина такой символический итог был наполнен вполне реальными впечатлениями, которые мне удалось понять, пройдя в сентябре этого года «тропою Грина», которой он некогда любил ходить из Старого Крыма, где жил, в Коктебель. Сначала идешь безлюдным горным лесом, затем сухой, колючей и еще более пустынной Амеретской долиной и наконец выходишь к морю, к людям, «в мир».
Среди других «ридингов» отмечу перечитывание Юнгера, к юбилею которого я написал для «Горького» обстоятельную статью; любопытную чернодырную теорию «Пульсирующей Вселенной» Ника Горькавого; «Размышления аполитичного» Томаса Манна, блестяще переведенные дочерью Василия Шукшина; мифологический сборник «Боги, демоны и другие» индийского классика Нарайана; забавный постмодернистский роман японца Тацухико Сибусавы «Записки о путешествии принца Такаока»; и неожиданно для себя «Сороку на виселице» Эд. Веркина, которая меня удивила как изощренностью нарратива, так и карикатурным ретроградством идеи.
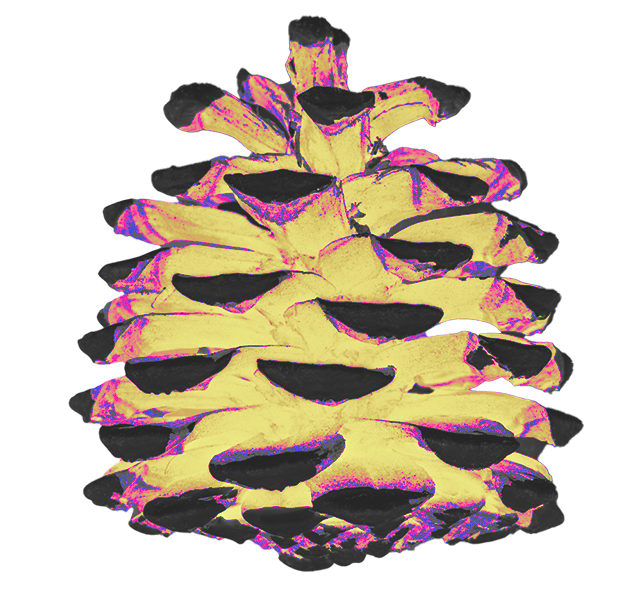
Валерия Давыдова-Калашник
Есть в интернете старинная забава под названием «Пять шагов до Гитлера», которая заключается в том, что с любой страницы на Википедии можно в пять (а то и меньше) переходов по реферальным ссылкам внутри этой статьи добраться до страницы про Адольфа Гитлера. Похожую игру можно затеять и в литературе — только рано или поздно все окажутся на странице романа «Белый кит» Германа Мелвилла. Так произошло и со мной.
Дело было вот как. В этом году я укрепила ножки своего алтаря имени Джозефа Конрада чтением еще двух его вещей — «Лорд Джим» и «Тайный агент». Первая повесть — о происшествии на корабле, такие морские произведения с этим писателем в первую очередь и ассоциируются. А вот вторая книга совсем не похожа на конрадовскую. Роман «Тайный агент» — шпионский детектив об анархистах. Чтобы прийти в себя от неожиданного открытия — никаких тебе перипетий на грот-мачтах или интриг при спуске вельбота, — пришлось срочно прикрывать течь в трюме новой книгой. Понимаете ли в чем дело — мой дедушка был морским инженером, ходил в рейсы. Я выросла с его рассказами о море, и, конечно, после предательского шпионского удара ножом в спину от Конрада дальше стала искать морские романы — угадайте, куда это меня привело? Правильно, к «Белому киту». Делать нечего, пришлось его перечитывать — до конца года осталось еще несколько страниц.
В прошлом году я делилась списком прочитанных книг японских авторов. Не собираюсь разочаровать вас и в этом — еще одна морская повесть попалась мне на глаза во время реабилитации после «Тайного агента». Это «Краболов» Кобаяси Такидзи, вещь, вышедшая в 1929 году. Такидзи описывает эксплуатацию рабочих на плавучей крабоконсервной фабрике — антисанитарию, нарушение прав и произвол руководства. В тогдашней Японии левые идеи были немыслимы, и первый тираж повести конфисковали. Но до советского, а затем и современного читателя эта талантливая книга, конечно, дошла. Кстати, в 2009-м вышла одноименная экранизация режиссера Сабу.
Было в этом году много яркого нон-фикшна, но все же особенно мне дорог подарок редактора издательской программы музея «Гараж» Дарьи Логинуполо — исследование Катарины Лопаткиной «Японское. Модернистское. Пролетарское. Искусство Японии 1920–1930-х годов в СССР». Это обстоятельный и красочный (в книге приведены репродукции работ) рассказ о тех художниках, чьи произведения волею судеб и стараниями множества неравнодушных людей оказались в советских музеях.
Не так давно я сравнивала роман Марии Корелли «Скорбь Сатаны» и булгаковскую нетленку (точнее, «негорянку») «Мастера и Маргариту» — и упоминала серию «Магистраль». В ней выходят классические произведения в новом оформлении — среди ее книг я обнаружила «Портрет дамы с жемчугами» Кикути Кана, роман о роковой любви и роковой же смерти, и «Мальчугана» японского мэтра Нацумэ Сосэки — самую известную его автобиографическую повесть, которую давно искала в бумажном виде.
А еще было много японских детективов — «Хрустальная пирамида» и «Кисть ее руки» (в двух томах!) Содзи Симады, «Точки и линии» Сэйтё Мацумото — но об этом я обязательно расскажу обстоятельнее в новом году на страницах «Горького».
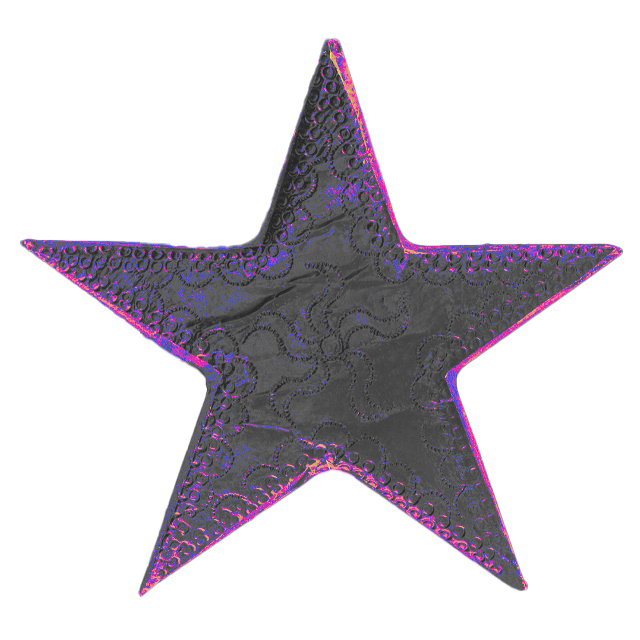
Василий Владимирский
Оговорюсь сразу: это не первый, не второй и даже не пятый текст о важных, нужных, значимых книгах 2025 года, который я пишу в декабре. Сложно избежать самоповторов — так что буду по возможности краток и сосредоточусь только на одной тенденции. Правда, тенденции глобальной, охватившей все этажи нашей Вавилонской башни, весь условный «фантастический цех» сверху донизу — на мой взгляд, в поведении издателей и писателей-фантастов она многое объясняет.
В уходящем году журналисты и блогеры не раз писали о доминировании в коммерческом самиздате нового, невиданного и неслыханного субжанра «ромэнтези» — любовно-романтической фантастики в фэнтезийном (реже — научно-фантастическом) антураже. Между тем этот вид литературы под именем «ромфант» пользуется устойчивой популярностью уже не одно десятилетие: например, в 2017-м Елена Звездная, создательница полусотни таких романов, стала лауреатом премии «Фантаст года» за самые высокие тиражи и лучшие продажи. То же с «попаданцами», которых вывел в топ редактор и писатель Александр Мазин, еще в 2001-м опубликовав роман «Варяг» и запустив серию «Историческая авантюра», с «ЛитРПГ», взлетевшим в начале 2010-х благодаря сочинениям Дмитрия Руса, Василия Маханенко, Андрея Лавина и других русскоязычных авторов, освоивших жанровую формулу, которую придумали в начале века в Южной Корее. В общем, новизна сомнительная, всех этих стюардесс у нас откапывали уже неоднократно — однако всякий раз находятся люди, для которых в новинку это бесконечное déjà vu.
Но и за пределами чисто формульной литературы интерес к прошлому откликается непредсказуемо и разнообразно. Самый сильный фантастический роман прошлого года (а на мой взгляд, не только фантастический и не только прошлого), «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина, недвусмысленно отсылает читателей к «Далекой Радуге» братьев Стругацких и «Солярису» Станислава Лема, «золотой классике» мировой НФ. Действие «Смеха лисы» Шамиля Идиатуллина разворачивается в дальневосточном авиационном полку в конце 1980-х, на пике перестройки, а в книге Владимира Березина «Пентаграмма Осоавиахима» собраны рассказы об изрядно мифологизированном Советском Союзе. Некоторые писатели ныряют в этот омут еще глубже. В историко-фантастической «Невьянской башни» Алексея Иванова основной сюжет развивается на задворках Российской империи в XVIII веке, а в книгах Ивана Белова «Заступа. Чернее черного» и «Заступа. Грядущая тьма» — в фэнтезийной Новгородской республике XVII столетия, отстоявшей свой государственный суверенитет. История настойчиво стучится в двери — а если не пускают, лезет в окно, не стесняясь хозяев.
Отдельный феномен — возвращение фантастов «из прошлого». В 2025-м — из прошлого сравнительно недавнего: новые романы и сборники выпустило сразу несколько авторов Цветной волны, прогремевших в конце нулевых благодаря «произведениям малой формы» и регулярному участию в сетевом конкурсе «Рваная грелка». Алтайский хоррор «Саспыга» Карины Шаинян, двухтомный стимпанковский (а скорее дизельпанковский) «Пересмешник на рассвете» Дмитрия Колодана, сборник пестрых и ярких рассказов К. А. Терины «Все мои птицы» и первая половина космооперы Юлии Зонис «Атлант и Демиург» вышли буквально за несколько месяцев — печально, что такой массовый выброс творческой энергии у этих авторов случается нечасто.
Здесь же стоит упомянуть и основанный на румынском фольклоре роман Наталии Осояну «Змейские чары» — сложную, умную книгу с нелинейной композицией, зачем-то упрятанную под тривиальную «ромфантовскую» обложку. В Цветную волну Наталия никогда не входила, но она относится к тому же поколению — отсюда, видимо, близость взглядов на литературу, например, любовь к не самым простым и очевидным нарративным решениям вопреки ожиданиям простодушной ЦА.
Археологическими раскопками продолжают заниматься и издатели переводной литературы. Поиск пропущенных авторов, не переведенных своевременно, но важных для истории жанра книг уже стал новой традицией. В 2025-м на русском впервые вышли этапные для англо-американской НФ шестидесятых роман Нормана Спинрада «Жук Джек Баррон» и антология под редакцией Харлана Эллисона «Опасные видения»; опубликованы тетралогия Джина Вулфа «Книга Длинного солнца», написанная в 1993–1996-м, «Король боли» (2010), сборник повестей Яцека Дукая, духовного наследника Станислава Лема, «Светлые века» (2003) и «Дом бурь» (2005) именитого британца Йена Маклауда, «Заводная ракета» (2011) Грега Игана, мастера «сверхтвердой» научной фантастики, «Ретроспектива» Питера Уоттса, включающая практически все рассказы канадского писателя за три десятилетия — и так далее. Эти книги вполне могли появиться на полках наших магазинов пятнадцать, двадцать, тридцать лет назад — и, скорее всего, не разочаровали бы подготовленного читателя даже во времена куда более жесткой конкуренции. Но вышли они только сейчас, когда бесконечная гонка за новинками оборвалась в силу внешних обстоятельств непреодолимой силы.
Стоит ли ждать, что этот тренд на «возвращение к истокам» в ближайшее время сменится каким-то другим? Возможно — но, мне кажется, маловероятно. В пору больших потрясений прошлое не то чтобы привлекательнее настоящего, но определенно понятнее, логичнее, там есть на что опереться и от чего оттолкнуться. В том числе — прошлое жанровой литературы. Впрочем, поживем — увидим: нет ничего более бесплодного и бессмысленного, чем сочинение сценариев будущего в эпоху перемен, и кому, как не фантастам, это понимать лучше прочих.