Нехорошая история
Роман Марии Корелли как источник «Мастера и Маргариты»
Рита Томас
Появление на российских книжных прилавках переводной мистической литературы более чем столетней давности любопытно не только как примета нашего времени, но и как повод задуматься над источниками других, куда более известных нам и любимых произведений. Так, открыв роман поздневикторианской писательницы Марии Корелли «Скорбь Сатаны», Валерия Давыдова-Калашник обнаружила в нем подозрительно много общего с «Мастером и Маргаритой» Михаила Булгакова. Предлагаем ознакомиться с ее наблюдениями.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Мария Корелли. Скорбь Сатаны. М.: Эксмо, 2025. Перевод с английского Влада Чарного
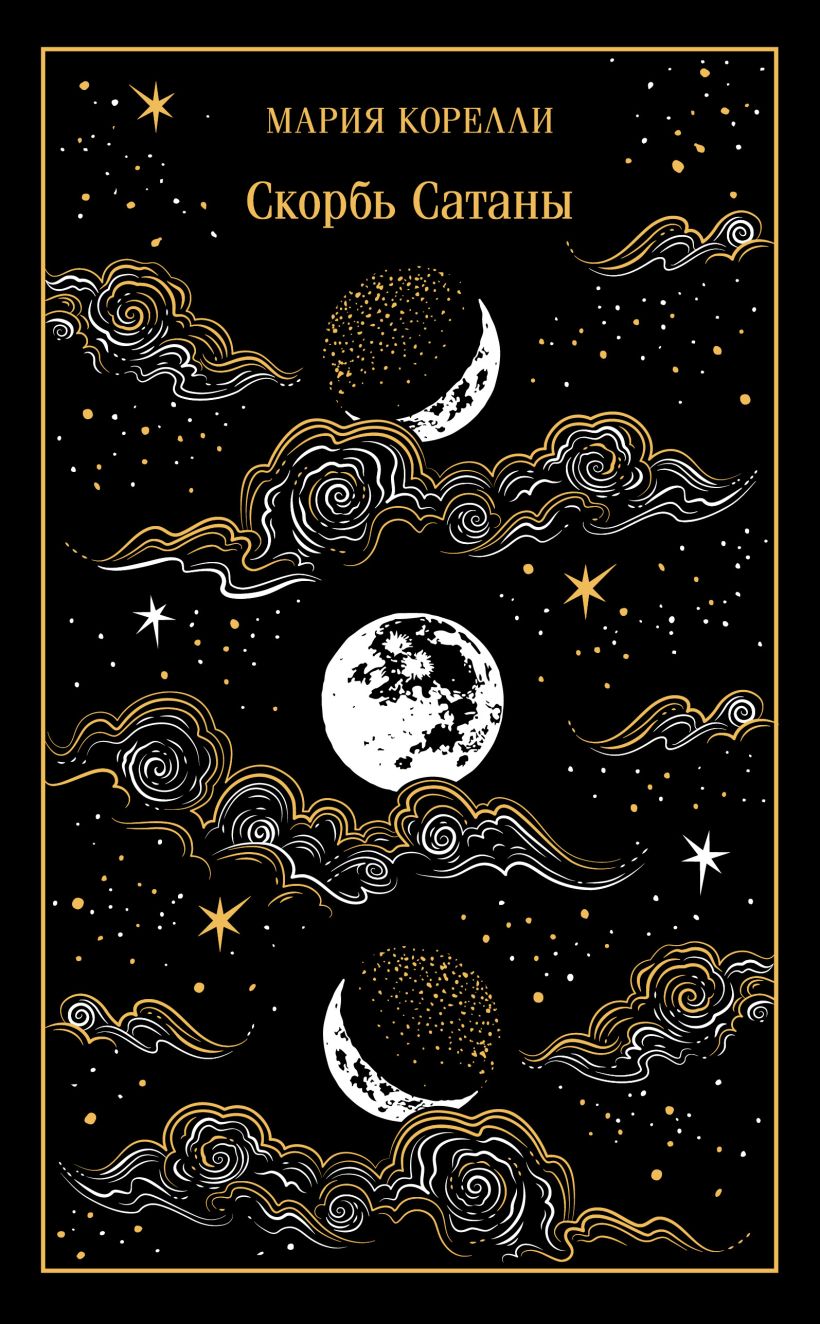
Книга Марии Корелли «Скорбь Сатаны», быть может, вовсе не попала бы в поле зрения автора этого текста, если бы не серия издательства «Эксмо» под названием «Магистраль». В этой серии с недавних пор переиздают классические произведения, и, увидев среди них упомянутый роман, автор невольно замешкалась, поскольку никогда прежде даже не слышала о нем. Но потом обнаружила, что он выходил еще в нескольких сериях, и поняла: дело явно нечисто. Впрочем, нет ничего удивительного, что перевод этой вышедшей еще в 1895 году нелепо декадентской, полной мистики истории, в которой, кажется, живет дух Елены Блаватской, переиздали именно сегодня — на фоне повального увлечения гаданиями, картами Таро, астрологией, натальными картами и прочими вещами, в которых современный человек тщится найти ответы на трудные вопросы, которые ставит перед ним наша суровая реальность.
Но была и еще одна причина, заставившая автора прочесть эту книгу. Дело в том, что для русскоязычного читателя имя ее автора тесно связано с другим, куда более известным в литературном мире именем — Михаила Булгакова. Слишком уж тесно роман «Мастер и Маргарита», написанный несколькими десятилетиями позже «Скорби Сатаны», сближается с его сюжетными перипетиями. Бесспорно, вспоминая произведения, которыми вдохновлялся Булгаков, мы в первую очередь думаем не о романе Мэри Корелли, а о «Фаусте» Гёте — Михаил Афанасьевич подчеркнул это в эпиграфе, — но в действительности «Скорбь Сатаны» намного ближе к «рукописи, которая не горит». И вот почему.
Ненавистный роман
Сюжет «Скорби Сатаны» сразу же знакомит читателя с Джеффри Темпестом — бедным, беднее церковной мыши, писателем, который уже написал свой первый роман. Рукопись — самое дорогое и, пожалуй, единственное, что у него есть. Как и у Булгакова, в жизни главного героя Корелли роман тоже сыграет роковую роль — и станет ему со временем ненавистным. Но пока этого не произошло, в судьбе несчастного Джеффри начинает происходить какая-то чертовщина — вот он получает в наследство пять миллионов фунтов (совсем как Мастер, который внезапно выиграл в лотерею) и становится одним из самых богатых людей в мире. Примечательно, что, как и Мастеру, деньги позволяют Темпесту закончить работу над романом. Но впоследствии, когда текст опубликуют, Джеффри уже и сам будет не рад, что написал его.
И вот у него появляется друг — загадочный Лучо Риманез, роскошный князь, пышущий красотой и богатством, который вводит Темпеста в круг «десятитысячников», высшего британского общества. Темпесту противны эти люди — их похоть, жажда денег, эмоциональная импотенция, глухота. Причем Лучо его в этом поддерживает — они оба испытывают отвращение к аристократии, порицают ее за любовь к деньгам и трусость, высмеивают ее пороки, но не отрицают при этом, что сами стали частью этого стада. Воланд схожим образом будет выставлять напоказ недостатки советской артистической, культурной и литературной «аристократии», не забывая при этом и о простых людях, которых «испортил квартирный вопрос». При этом «Скорбь Сатаны» построена по фаустовскому канону: внезапно разбогатевший и приобщившийся к успеху главный герой встречается с дьяволом, испытывает соблазн, терпит моральный крах и становится на путь искупления. А затем сюжет идет к трансцендентному финалу.
И Джеффри Темпест, и Мастер — творцы, которые по большому счету познают лишь иллюзию успеха, но истинного признания не получают. Темпест богат, но он понимает, что «с миллионами несчастлив». Мастер у Булгакова независим, но, столкнувшись с «редакционным советом» и цензурой, вынужден сжечь рукопись. В обоих сюжетах присутствует мотив рискованной сделки с потусторонними силами: Темпест заключает сделку с дьяволом, Мастер в буквальном смысле предлагает себя и свое творчество через Маргариту Воланду, благодаря чему попадает в параллельную реальность.
При этом оба героя получают шанс внутреннего освобождения или изменения: Темпест отказывается от богатства и выбирает обычную жизнь, Мастер по милости Воланда освобождается от жизни в психической лечебнице.
Дьявол приходит в гости
Как и Воланд, Лучо Риманез — загадочный, красивый мужчина, про которого никто не знает, откуда он, сколько ему лет и чем он занимается. Известно лишь, что он князь, как и о Воланде обычные смертные знают, что он «турист». Но у Лучо не такая обширная свита, как у булгаковского дьявола, — в нее входит лишь его помощник Амиэль, который у Булгакова станет Азазелло и приобретет рыжие волосы, клык и хромоту.
И Лучо, и Воланд — демонические фигуры: они интригуют, соблазняют, оказывают роковое влияние. И оба не просто развлекаются среди людей, но обнажают их пороки. Если в случае с булгаковским Воландом читатель может лишь строить догадки, почему дьяволу интересно тратить на это время, то Корелли объясняет четко: Люцифер — это бывший ангел, который настолько повздорил с Богом, что его попросили убраться с Небес. Но он сможет туда вернуться, если его отвергнет как можно больше чистых душ. Этого не происходит — и оттого светоносный скорбит. Лучо ненавидит всех — особенно женщин: они способны творить добро, но причиняют столько зла. Однако, несмотря на ненависть, в его душе находится место и для жалости — как и у Воланда.
У Булгакова Воланд и его свита заняты еще и тем, что разоблачают иллюзии раннесоветской московской жизни: лицемерие обывателей, конформизм литературных критиков, карьеризм номенклатуры. Как и Лучо, они в роли наблюдателя со стороны показывают, что под маской «нормальной жизни» скрыты страшные вещи. Но Лучо все же не обыкновенный демон-искуситель, носитель отрицательной моральной и философской функции: он жалуется на человечество, испытывает своего рода «собственную печаль» — как будто несет ответственность за все происходящее. Воланду подобное отношение к людям скорее чуждо — он наблюдает за москвичами свысока, как за любопытными зверушками.
Сибил и Маргарита
В «Скорби Сатаны» читатель не найдет той высокой жертвенной любви, которую обрисовал Булгаков, потому что в греховном болоте, населенном порочными людьми, места для подобной любви просто нет. Джеффри Темпест без памяти влюбляется в Сибил — девушку знатного происхождения, но из-за долгов отца вынужденную выбирать того, кто «побогаче». Она часть высшего британского общества — красива, но пуста, ищет смысл жизни в деньгах, внешности, положении. И лишь чувство к Лучо наполняет ее жизнью (да-да, у Корелли женщина влюбляется в Сатану — кто мы такие, чтобы винить за это обеих). Жизнь булгаковской Маргариты столь же пуста без любви, потому она так держится за воспоминания о Мастере, он и правда смысл ее жизни — до встречи и после расставания с ним она всего лишь существовала. Обе они по-своему служат отражением общественной роли женщины: у Корелли — в викторианской элите, у Булгакова — в советской. Обе они — «трофейные жены»: Сибил (как и любая дебютантка сезона) служит живым товаром для удачного замужества, Маргарита выходит замуж за важного чиновника и после этого ни дня нигде не работает.
Сибил — типичная представительница того общества, которое Корелли критикует как поверхностное, упадническое, флиртующее с моральными устоями. Маргарита же несет в себе активное начало, она не просто объект авторской критики — ей предстоит пройти путь героический, романтический, символический. Булгаков, таким образом, наделяет свой главный женский образ спасительными функциями, тогда как Корелли в своей героине подчеркивает лишь стремление к богатству и успеху, тягу к соблазну и похоти. Однако обе приходят к в чем-то схожему финалу. Сибил совершает самоубийство, потому что не может быть с любимым — она выпивает яд, и ее предсмертное письмо доказывает, что смерть лишь переход в иной мир, из которого, кажется, она смогла ненадолго выбраться, чтобы завершить свое послание. Маргарита тоже гибнет ради любимого — но совершает иной переход: обретает покой с Мастером в инобытии. Любопытно, кстати, что у Корелли Лучо, отвергая чувство Сибил, говорит ей, что после ее смерти им предстоит встретиться.
Современное общество
Корелли критикует британскую элиту — за чрезмерное богатство, лицемерие, моральный упадок. Темпест живет в окружении роскоши, но при этом глубоко несчастен; Сибил выходит за него замуж по расчету, а не по любви (как и Маргарите, ей известно, что это такое, когда «муж надоел»). Заодно достается культурной богеме: Корелли раздражают морально деградировавшие романы и «новая литература женщин», она критикует литературных, книжно-библиотечных посредников, читающую публику и «многое, что публикуется». Булгаков схожим образом выставляет на обозрение читателя пороки московских литературных кругов. Корелли высмеивает моральную неустойчивость современников, под внешним блеском скрывающих внутреннюю пустоту, их никчемные литературу и критику, стремящиеся к славе, но не к истине — так же, как это будет делать и Булгаков.
Булгаков высмеивает литературно-партийные круги, советских бюрократов с их карьеризмом и конформизмом, бездушных интеллигентов, жаждущих признания и не ценящих свободу. В центре его сатиры оказываются и простые обыватели с их внутренней пустотой. Попав под влияние Воланда, они обнаруживают, что их успех основан на лжи, посредственности, корысти. Чего стоит превращение червонцев из варьете в обычную бумагу и прочую «дрянь» — они исчезают так же стремительно, как и деньги британской аристократии за карточным столом у Корелли.
По сути, Булгаков высмеивает целиком всю тоталитарную систему с ее цензурой, официозное искусство, ставшее инструментом идеологического давления, общество слепых карьеристов с их бюрократической «литературной машиной». И если это чем-то отличается от литературной среды, изображенной у Корелли, то лишь своими поистине всеохватными масштабами.
Бал у Сатаны
Сцена ночного бала в «Мастере и Маргарите», как указывают исследователи творчества Булгакова, появилась после того, как писатель побывал на приеме в американском посольстве. Но думается, это не единственный источник его вдохновения. В «Скорби Сатаны» также есть сцена помпезного праздника по случаю предстоящей свадьбы Джеффри и Сибил.
Размахом роскоши и многочисленностью гостей вечер, устроенный Лучо в поместье Уиллоусмир, ничуть не уступает балу Воланда. Расторопные слуги, великолепные (конечно, потусторонние) убранства, удивительные музыканты и танцоры (разумеется, демонической природы), дорогие деликатесы и фрукты, бьющее в глаза пышное изобилие всего и вся. У Булгакова, как мы помним, гости целой чередой являются на бал из камина, у Корелли все несколько прозаичнее — они партиями приезжают в поместье на поезде. «Мне пришлось выслушивать приветствия, комплименты, лесть и поздравления с близящейся свадьбой от массы лицемеров, что в стремлении приобщиться к моему богатству чуть ли не оторвали мне руку, — сетует Джеффри Темпест. — Толпы гостей все продолжали прибывать, и, когда набралось три или четыре сотни, вдруг грянула восхитительная музыка и явилась процессия пажей в пурпуре и золоте, шедших попарно, с подносами, полными букетов из редчайших цветов; их вручали каждой из присутствовавших дам».
Что ж, на таком празднестве вполне можно представить себе Маргариту, подставляющую руку и колено, чтобы к ним приложились вываливающиеся из камина висельники, интриганы и отравители. Кстати, в обоих романах торжества заканчиваются ровно в полночь.
Конец истории
Надо признать, что Булгаков в нужный момент «оборвал» финал — его Мастер вместе со своей возлюбленной обрел покой, пусть и не в мире живых. Джеффри и Сибил тоже «заглянули» за грань земного бытия: но если Сибил осталась там, то Джеффри, увидав истинный облик Лучо (кстати, в финале «Мастера и Маргариты» облики Воланда и его свиты также переменились), все же вернулся в мир смертных. И даже впоследствии еще раз столкнулся с Лучо, чтобы молча попрощаться с ним навсегда. В какой-то степени и Корелли, и Булгаков не оставили своим героям выбора: Мастер не мог вернуться в реальный мир, как просила Маргарита, а Темпест не мог в нем не остаться.
Корелли заканчивает свой роман тем, что Темпест, утратив богатство, возвращается к литературному труду, к скромной жизни, вдохновившись примером Мэвис Клэр — писательницы, в которой легко угадывается альтер эго самой Корелли. Отказавшись от внешнего успеха, он выбирает внутреннее очищение. Дьявол в личине Лучо исчезает из его жизни и уже выбирает себе новую жертву. Исправлению общества это, конечно, не способствует, но главный герой находит свой истинный духовный путь. В романе Булгакова финал носит более амбивалентный и мифологический характер: Мастер и Маргарита обретают «покой», но не «свет», уходят вслед за Воландом туда, где нет суеты. Творчество, казавшееся обреченным, получает продолжение — ведь «рукописи не горят». Но и здесь торжествует духовность — как противоположность трусости, этому «самому страшному пороку».
Возможно, кто-то возразит: у нас нет прямых свидетельств того, что Булгаков вообще когда-либо читал роман Корелли (хотя такая возможность у него, безусловно, была). Можно сказать, что, несмотря на общее сходство обоих романов и даже на полное совпадение отдельных сюжетных деталей между ними, у Корелли вышла более назидательная, полная морализма история, с четкими дидактическими установками, тогда как у Булгакова мы находим блестящий гротеск, глубокую сатиру, символическую многослойность и сложную композицию с параллельными сюжетными линиями. И что Булгаков, в отличие от Корелли, творит в иной культурной среде и в рамках другой национальной литературной традиции, а общие мотивы их произведений можно объяснить жанровыми конвенциями в общем-то бродячего сюжета, известного со времен позднего Средневековья.
Но вспомним еще об одной сцене из романа английской писательницы — немаловажной, если учесть, что Булгаков где-то должен был почерпнуть вдохновение для разработки линии, связанной с событиями в Ершалаиме. Речь идет о сцене гипноза, с помощью которого Лучо заставляет Джеффри погрузиться в мир Древнего Египта. Описание того, что он там увидел, очень похоже на первое описания Ершалаима в «Мастере и Маргарите».
Если мы допустим, что Булгаков осознанно (или даже подсознательно) воспользовался некоторыми образами и мотивами, найденными у Корелли, — дьявольского гостя-интригана, творца-жертвы, женщины-героини, сатирически изображенным обществом, финалом-освобождением — то все встает на свои места. Но даже если так и произошло, то Булгаков, конечно, не просто позаимствовал их у Корелли, но и значительно их трансформировал.
Причем тут автор «Дракулы»
Первый перевод романа «Скорбь Сатаны» на русский язык вышел в 1903 году. Существует распространенное заблуждение, будто уже тогда издатели напутали и в качестве автора этой книги указали Брэма Стокера. Но это не так, в том издании имя автора было приведено верно. А вот в 1991 году этот роман действительно почему-то вышел под именем Брэма Стокера. И наоборот: в 1993 году перевод «Дракулы» был опубликован под авторством Марии Корелли, да еще и под названием «Вампир — граф Дракула» (Верхне-Волжское книжное издательство, Ярославль). Как причудливо тасуется колода! Чертовщина какая-то.