Создайте свору против скверны
О книге Жульена Бенда «Предательство интеллектуалов»
В 1927 году французский писатель и мыслитель Жульен Бенда опубликовал провокационный памфлет «Предательство интеллектуалов», в котором обвинил коллег по перу в том, что они позабыли о своем предназначении, утратили беспристрастность и начали заниматься чем-то не тем. О сильных и слабых сторонах его работы, недавно вышедшей на русском языке вторым изданием, рассказывает Антон Прокопчук.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Жульен Бенда. Предательство интеллектуалов. М.: ИРИСЭН, 2025. Перевод с французского В. Гайдамака, А. Матешук
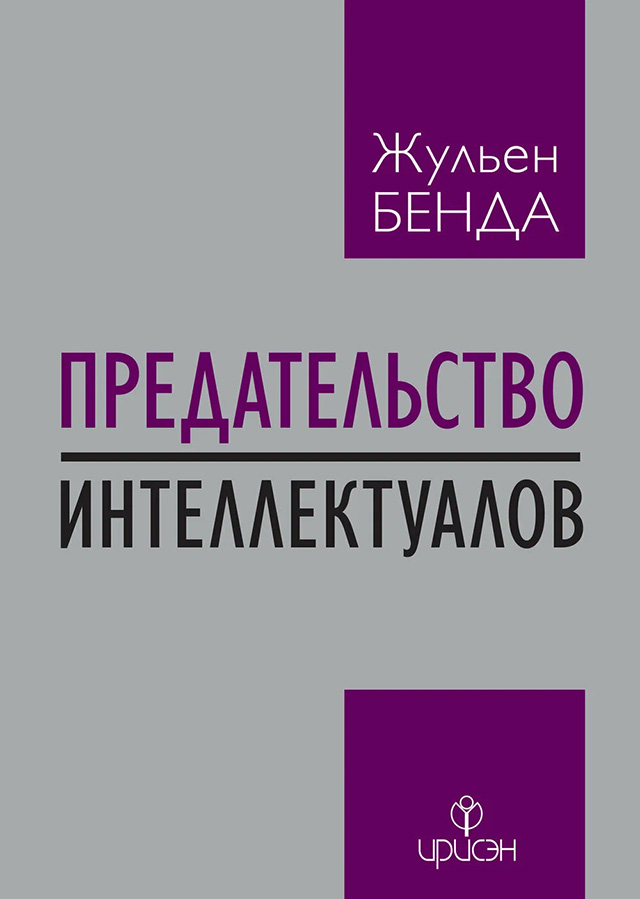
Жульен Бендá (1867–1956) — французский писатель, публицист и мыслитель. Современники описывали его как «невыносимого, но приятного», сам он предпочитал называть себя «свободным человеком». Снискав прижизненную славу ярким провокационным памфлетом «Предательство интеллектуалов», он и сегодня остается не просто любимчиком, а почти архетипом для всех, кто выходит из-за кафедры на площадь. Бенда — один из самых почтенных «духовных отцов» в родословной нынешних социальных критиков с академическим бэкграундом. Образ интеллигенции как «клира» то и дело заимствуют всевозможные обличители мракобесия, тираний и самодержавия, даже незнакомые с его творчеством, а заглавная риторическая фигура «предательства» остается дежурным штампом в бесконечных дискуссиях об общественной миссии просвещенного класса. Во всем этом есть свои резоны, но есть и доля трагической иронии, о чем хотелось бы поговорить сегодня в связи со свежим переизданием его главного сочинения.
Впервые книга увидела свет в 1927 году. Говоря совсем коротко, автор анализирует в ней культурную атмосферу начала века, которая, на его взгляд, способствовала скатыванию Европы в кошмар и абсурд Первой мировой войны. Он констатирует, что за прошедшие годы европейские интеллектуалы в лучшем случае ничему не научились, а скорее стали только сильнее упорствовать в своих заблуждениях. Если дело так пойдет и дальше, пишет Бенда, континенту не избежать катастрофы куда более страшной. Обещанная катастрофа не заставила долго ждать. В 1946 году вышло второе издание, с новым обширным предисловием, включенным также и в русское издание. Здесь автор вносит ряд уточнений и анализирует произошедшее, по счастью, избегая бахвальства успешного предсказателя. Вероятно, он был бы рад оказаться опровергнутым историей. Однако теперь он не может остаться в стороне и не разобраться заново, что и как именно все-таки произошло.
В чем же заключался грех довоенной интеллигенции? В оригинале книга называется La Trahison des clercs. С первым словом все ясно — это «предательство» или «измена». Второе прозвучало несколько непривычно даже на французский слух. Так действительно называют, но не просто интеллектуалов, а «духовных лиц», людей просвещенных в классическом и почти возвышенном смысле. В обыденном языке clerc — это и «клерк», и «клирик». Конечно, Бенда не просто так выбирает его вместо более привычного intellectuel. Уже самим заглавием он настаивает, что интеллектуалы — это не просто образованные люди, а одновременно должностные лица науки и служители ее культа. Поэтому и в качестве эпиграфа использована цитата из важного для Бенда, но неизвестного в России французского философа-неокантианца Шарля Ренувье: «мир страдает от недостатка веры в трансцендентную истину».
Истина священна. Ее поиск интеллектуал обязан ставить бесконечно выше всех земных забот. Истина универсальна. Она не может быть предметом партийных разногласий, будь то личных, конфессиональных, национальных или классовых. Стало быть, ученый в первую очередь «священник разума» и только потом живой человек со своими страстями и предпочтениями. Истина не от мира сего. Поддаваясь мирским соблазнам и окунаясь с головой в пену дней, интеллектуал совершает предательство. Он изменяет вечному и неизменному с кипящей, неустойчивой действительностью. Он предает возвышенную созерцательную жизнь за успех в повседневных делах, а защиту отвлеченной справедливости оставляет ради борьбы «своих» против «чужих».
Вот почему ближайшим предметом яростной критики Бенда оказываются не речи идеологов, манифесты нового искусства, пропагандистские штампы и обывательские предрассудки, но всевозможные разновидности прагматизма, витализма, а позднее экзистенциализма и других иррационалистских течений в философии и науках, набравших неслыханную популярность в эпоху fin de siècle. Это их приверженцы — главные предатели духовного цеха. Потакая в своем творчестве разрушительным устремлениям политиков и низменным страстям обывателей, они провозгласили метафизический приоритет жизни над разумом, практики — над теорией, изменчивости — над вечной истиной. Вместо того чтобы познавать мир, они ввязались в его переустройство. Желая стать воспитателями и вождями мнений, они превратились в ведомых «общественным мнением».
Книга глубоко укоренена в дискуссиях своего дня. Она переполнена фамилиями тех, кого Бенда обличает, и тех, кого берет в союзники. Разумеется, главной мишенью и своеобразной иконой ненавистных автору тенденций стал духовный гуру нескольких поколений, философ и нобелевский лауреат Анри Бергсон. Тяжба с ним была особенно агрессивной, и, можно сказать, как раз на ней Бенда сделал себе имя. Притом что поначалу он высоко ценил усилия Бергсона по реабилитации тем и понятий классической метафизики, Бенда беспощадно обрушивался на его интуитивизм и витализм, которые воспринимал как мистику, идущую вразрез с идеалами рационализма. Бергсон, в отличие от иных «бергсонистов», оставлял выпады без ответа, хотя и признавался в частном порядке, что эта односторонняя война действует ему на нервы. Бенда же дошел до того, что в работе «Бельфегор» назвал философа и его последователей поклонниками одноименного демона — в отличие от себя и других правоверных иудеев, духовным предводителем которых следует считать Спинозу.
Правоверность этого великого мыслителя — вопрос крайне дискуссионный, и мы возьмем его в скобки. Бергсон же, как и Бенда, был выходцем из светской, ассимилированной еврейской семьи. Его философия скорее мистическая, чем религиозная, а конфессионально он и вовсе склонялся к католицизму. Напротив, Бенда широко использовал ветхозаветные образы и темы, придавал большое значение собственному еврейству и, в отличие от Бергсона, в свое время активно выступал как дрейфусар. Кроме того, он полагал, что судьба поставила его народ в уникальное положение, оставив без родины. Тем самым еврей может быть не просто чужаком на чужбине, но во всех уголках света оставаться беспристрастным, напрямую преданным божественным законам и свободным от местных предрассудков. Впрочем, даже в этом «стратегическом еврействе» Бенда как мог избегал национальной привязанности и ценил всеобщее выше племенного. Вдобавок он искренне уважал нравственный образец Христа, которого ставил в один ряд с Сократом.
Однако пыл и рвение, с которыми он защищал свою правду и клеймил оппонентов, вполне можно назвать религиозными. Уязвленные его критикой фигуры в полемических контратаках не боялись отвечать взаимной нетерпимостью, в том числе прибегая к расистским и антисемитским выражениям. К примеру, открыто их использовал Шарль Моррас и участники Action française, а в частной переписке — Жорж Сорель. Публичная полемика в те времена вообще была не на шутку горячей, а ставки — чрезвычайно высокими, и трудно найти автора, который бы совсем не язвил и не спускался на уровень запрещенных приемов. Бенда не слишком выделялся на этом фоне и был подчас гораздо злее и острее на язык, чем иные его оппоненты.
Не был он приверженцем и весьма популярного после Первой мировой пацифизма, который считал столь же несостоятельным и даже опасным, что и милитаризм. Идея, будто мир превыше всего, говорил он, для большинства оказывается позицией одного чувства, не подкрепленной никакими выводами. Именно поэтому от прекраснодушного осуждения всякой войны в новых обстоятельствах люди запросто переходят к столь же чувственному воодушевлению войной и патриотическому угару. Настоящий интеллектуал стоит на позициях разума и всеобщих ценностей, а потому его приоритет — не мир любой ценой и не государственные интересы, а справедливость. Не мир, но меч принес нам Иисус, напоминает Бенда. Неспроста даже те из ученых людей прошлого, кто принимал политические дела близко к сердцу, все-таки держались от страстей на разумном расстоянии. Как, например, Николя Мальбранш, говоривший, что справедливости следует отдавать должное прежде милосердия.
Из подобных соображений, полагает автор, резко осуждали зверства конкистадоров в Новом свете великие богословы XVI века Франсиско де Витория и Бартоломе де лас Касас, заложившие основы современного международного права и понятия справедливой войны. Напротив, клириков и теологов ХХ века Бенда обвиняет в молчаливом попустительстве бесчинствам земных властей. И дело как раз в том, что безусловные догмы вселенской Церкви они готовы променять на политический прагматизм. Впрочем, свою порцию критики получают и поэты, и художники, и политические публицисты всех мастей. Несмотря на частные разногласия, их объединяет одно: забвение отвлеченных истин и вечных ценностей в пользу частных интересов и страстей, за которыми скрывается абсолютный нигилизм. Именно из безразличия ко всему когда-то священному на самом деле происходят призывы и к мировым революциям, и к порядку через железную дисциплину.
К его чести, Бенда не выводит Гитлера из Бергсона, который умер в оккупированном нацистами Париже, простудившись в многочасовой очереди на «регистрацию евреем». Бенда рассуждает в духе социологии знания своего времени, полагая, что тенденции в современной философии не порождают, а отражают и в силу авторитета и популярности подкрепляют тлетворные общественные и политические процессы. Он не обвиняет интеллектуалов в каких бы то ни было реальных событиях напрямую, но вменяет им моральную ответственность в точном смысле этого выражения. Они в ответе за свои иррациональные учения, которыми только поощряют невежество, агрессию и страсти толпы. Подлинная миссия интеллектуалов — или тех, кого эпоха почитает за таковых, — состоит в том, чтобы служить вечным заповедям созерцательной жизни духа и познания мира, а не активно вовлекаться в действительность и подчиняться ее мирским законам.
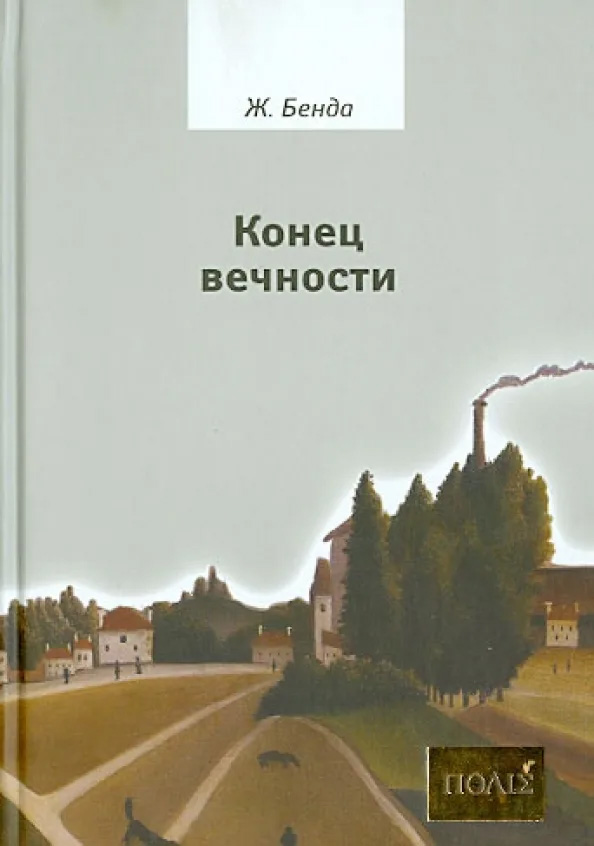
За успехом «Предательства…» от читателя часто ускользают другие сочинения автора, которые можно было бы назвать его собственным вкладом в философию. Между тем одно из них доступно и по-русски, хотя и не переиздавалось с 2012 года. Речь о небольшом трактате «Конец вечности» (1928), вышедшем сразу после нашумевшего памфлета и оставшемся в его тени. Здесь Бенда отвечает на возражения оппонентов, весьма показательно относя их к трем лагерям: «правых», «левых» и собственно философов. В отличие от предыдущего сочинения, теперь он уделяет больше внимания позитивным формулировкам своей доктрины, а не только критическим выпадам. Поэтому всем, кто заинтересовался его главной книгой, следует обратить внимание и на эту работу.
Бенда вновь поясняет, что его приговор интеллектуалам касается не просто их вмешательства в предельно конкретную сферу политики, а недостойной самого их имени «конкретности мышления». Несколько раз он цитирует слова Шарля Пеги, поэта и мыслителя, погибшего на фронте Первой мировой: «вечность пребывает во времени», говорил тот, добавляя, что «время, по сути своей, война». Бенда полностью разделяет вторую, гераклитовскую и гегелевскую мысль, радикально при этом не соглашаясь с первой. Да, время — это стихия противоречия, но именно поэтому ей радикально противостоит незыблемое царство вечных истин. Почитание современниками метафизики становления, «апостолом» которой здесь объявлен Пеги, Бенда называет «одним из самых ярких символов исчезновения у этого поколения всякого уважения к Духу».
Здесь я еще раз спрошу тех, кто учит, что Высшее Благо раскрывается во времени, что же они ответят массам, которые, чтобы оправдать свои захватнические аппетиты и свое насилие, постановляют, цитируя Гегеля, если он говорит о нациях, цитируя Маркса, если он говорит о классах, что они являются «моментами реализации Бога в мире».
Может показаться, будто автор не замечает, что политики ХХ века, в свою очередь, были как никогда склонны оставлять решение насущных проблем ради абстрактных идей. Политизация общих понятий и правда началась уже в эпоху Просвещения, а то и раньше, но все же наиболее чудовищные формы приняла в недавнем прошлом. Теперь люди охотно гибнут и вершат несправедливость не только за идеи чести, славы или глобальной гегемонии, но и за саму справедливость, за мир во всем мире, за свободу, равенство, братство и даже за гуманизм. Именно с абстрактностью и тоталитарным универсализмом новейших идеологий часто связывают самые страшные события минувшего столетия.
Универсализм, эгалитаризм, парирует Бенда, стали ферментами ненависти лишь благодаря той демагогической деформации, за которую Вольтер и Руссо несут не больше ответственности, чем Иисус за костры инквизиции. Господин Алеви, продолжает автор свою реплику, отвечает мне, что Иисус не говорил своим друзьям, как Вольтер своим: «Создайте мне свору». Я считаю, что тот, кто изгнал торговцев из Храма, был вправе сказать: создайте свору против скверны.
Бенда хорошо понимает, что действия не вытекают из слов напрямую. Идеал не перестает быть идеалом, какой бы негодяй ни клялся им в оправдание своих отвратительных поступков. С другой стороны, нет «партии несправедливости», но совершенно точно есть ее ненавистники. Не существует «церкви греха», но есть множество грешников. Вечные ценности универсальны и всеобщи, но согласны с этим далеко не все, и потому мир всегда расколот на две части. Не все на свете безразлично, существуют добро и зло, а значит, и борьба между ними. Следовательно, может и должна иметь место проповедь истины, ведь проповедь лжи уже давно заглушает голос совести.
Политическая проповедь с тех пор, как она существует, представляет собой два главных типа лжи: апостолы социального не желают признать, что они не заботятся об интересах истины; апостолы истины отказываются признать, что они, в сущности, пренебрегают интересами социального. Все-таки второй отказ шокирует меня больше, чем первый, и приверженцы истины обязаны ни в коей мере не жить во лжи — что не является обязанностью апостолов социального, поскольку они довольно часто доказывают, что они об этом знают.
Выходит, интеллектуал не обречен на заключение в «башню из слоновой кости». Напротив, Бенда полагает, что иногда служитель науки просто обязан выходить из-за кафедры и обращаться к массам.
Я заявляю, что интеллектуал нисколько не изменяет своему долгу, появляясь на городской площади, если он появляется там, чтобы проповедовать религию справедливости и истины, и если он открыто проповедует эти ценности как непрактические, то есть, как я понимаю, лишенные какой-либо связи с эгоистическими интересами либо нации, либо класса; другими словами, если он появляется там, чтобы протестовать от имени идеала против привязанностей к реальности, которые, как я показал [в «Предательстве…»], являются субстанцией самой политической жизни.
Здесь нет противоречия с его идеалом vita contemplativa. Напротив, говорит автор,
созерцательного интеллектуала я считаю самым главным, но не в соответствии с наиболее часто приписываемой мне мыслью, что он не служит человечеству, а наоборот, потому что, не ставя перед собой цель служить ему и, возможно, именно потому, что он не ставит перед собой такую цель, он и является тем, кто служит ему лучше всех.
Выражаясь словами апостола Павла, даже перед лицом коренных социальных потрясений интеллектуалу в первую очередь следует «оставаться в призвании». Только служа культу истины, он в то же время служит и обществу. Защищая вечные ценности, ученый оказывает ему гораздо большую помощь, чем подчиняя свои штудии злобе дня. Стало быть, и задача философа — это систематическая философская работа. Нужно сказать, что даже «Конец вечности» в этом смысле мало похож на строго философский трактат. Конечно, от этого книга не теряет привлекательности, но, как и «Предательство…», это прежде всего полемическая работа весьма эрудированного и остроумного человека, полная изящных и продуктивных идей, разрозненность коих не мешает им по сей день оставаться актуальными и провоцирующими на размышления.
Однако теперь, в самом конце разбирательства с критиками, автор все-таки решается предъявить нам свой «символ веры». В предельно внятной и сжатой форме он формулирует здесь центральные идеи своего творчества, словно катехизис для прихожан его Церкви Духа. Поскольку книга остается достаточно труднодоступной, уместно процитировать эти несколько страничек целиком. Пусть читатель самостоятельно решит, с чем здесь можно согласиться, на какой «-изм» это похоже и с каких сторон подчас несколько темные формулировки Бенда открыты тем или иным возражениям.
Думаю, что я отвечу пожеланиям некоторых моих читателей, собрав ниже, в небольшом количестве предложений, мои идеи относительно природы интеллектуала и ее связей с реальным миром.
I. Всякое существование — это существование индивида. Я называю индивидом не только отдельное существо, но и объединение отдельных существ, связанных одним и тем же интересом: семьей, нацией, общественным классом, человечеством.
II. Всякое индивидуальное существование, будучи, в сущности, утверждением существования вопреки миру, который его окружает, а также сохранением этого существования в его утверждении, подразумевает, по сути дела, дух завоевания и привязанность к этому духу. Отсюда следует, что реальная нравственность, что бы она ни утверждала, неизбежно является религией завоевания и тех душевных настроений, которые способны его обеспечить: гордыни, поскольку она является верой индивида в его право на господство, мужества, желания роста, духа агрессии, презрения к правам другого, чувства порядка как дисциплины, устанавливаемой между его частями тем целым, которое стремится победить или сохранить свою победу над внешним миром. Реальная нравственность неизбежно является воинствующей.
III. Интеллектуал — это тот, кто протестует против такой реальной (или обыденной) нравственности, прославляя идеальные или бескорыстные ценности. В сущности, эти ценности понимаются в отрыве от условий реального существования: они являются универсальными, абстрактными, вневременными. Сущность интеллектуала заключается в том, чтобы не принимать мир таким, каков он есть; по сути дела, он утопист. Точнее, его сущность в том, чтобы сражаться за веру индивида в самого себя, индивида, определяемого так, как я выше это сделал, и эта вера есть фундамент реальной нравственности; интеллектуал по своей сути сторонник учения о бесконечности.
IV. Цивилизованное человечество живет сосуществованием следующих двух элементов: мир, который знает лишь обыденную нравственность, мог бы быть лишь варварством; мир, который практиковал бы лишь нравственность интеллектуалов, перестал бы существовать. Цивилизации угодно, чтобы мораль интеллектуалов оказывала влияние на обыденную мораль, но никогда не испытывала бы влияния с ее стороны; так в системе Аристотеля божественное влияет на земное, но само никогда им не приводится в беспокойство. Под влиянием интеллектуала обычный человек смягчает свою нравственность, «цивилизуется», затем вновь овладевает собой, если он допустил смягчение в том, что его порочит. Это особенно заметно сегодня, когда вся Европа, кажется, возвращается к культу силы и отвергает свой либерализм XIX столетия, который она считает опасным. Не следует забывать, что цивилизация для обычного человека неизбежно подразумевает компромисс с его полностью практической сущностью, уклонение от ее закона.
V. Способы воздействия интеллектуала на обычного человека бывают двух видов. Первый состоит в том, чтобы просто осуществлять без какой-либо воспитательной претензии интеллектуальную деятельность и предоставлять практическому миру волнующее зрелище жизни, полностью посвященной культу идеальных и бескорыстных ценностей. Другой заключается в попытке осознанно и решительно преобразовать нравственность обычных людей. Сам этот способ воздействия предполагает два метода: один выражается в открытом объявлении войны противнику, в открытом заявлении о безнравственности практических ценностей и чистой идеальности тех ценностей, что предлагаются; это метод пророков и Иисуса; другой предпочитает окольный путь, согласие с некоторыми ценностями врага, чтобы завоевать его доверие и затем уже их преобразовать; это путь Церкви в миру; он опасен, и история показывает, что чаще всего не интеллектуал обращает в свою веру обычного человека, а обычный человек — интеллектуала; тем не менее он правомерен, и тот, кто заключает соглашение с обыденной моралью лишь для того, чтобы обеспечить победу морали интеллектуала, которой он придерживается на практике и прославляет ее во всей чистоте, тот остается интеллектуалом и в конечном счете носителем цивилизации.
VI. Совершенно иной случай, когда интеллектуал начинает со всей искренностью поклоняться ценностям обычного человека, пытается организовать мир согласно одним только земным законам, пусть даже это ему и удается, и отдает во власть людского презрения идеальные и бескорыстные ценности; тогда интеллектуал существует лишь номинально; фактора цивилизации человечеству недостает; оно поворачивается к чистому реализму, и тем более уверенно, чем больше оно, под руководством этих ложных интеллектуалов, идеализирует теперь свой реализм. Оно называет тогда идеализм обожествлением реальности, а цивилизацию — организацией практики. Именно эту революцию я вижу у моих современников, и именно ее я и пытаюсь описать.
В конечном итоге, однако, приходится констатировать, что собственно философская и теологическая аргументация все-таки остается у Бенда на втором плане. Рациональный аргумент часто теряется в полемическом задоре, а то и подменяется самоочевидностью классических тропов вроде антагонизма вечности и времени. Бросается в глаза и догматизм его взглядов. Автор чаще не подтверждает незыблемость разума, а только настаивает на ней, ссылаясь на авторитет классиков, которых почитает за учителей.
Наконец, его борьба с ангажированностью имеет отчетливо идеологический характер. Даже если принять в высшей степени спорное допущение, что в работах Платона, Спинозы и Канта мы находим одни те же убеждения по вопросу вовлеченности мыслителя в историю и политику, как бы то ни было, их убеждения неразрывно связаны с собственно философскими построениями, с их понятием справедливости. Между тем Бенда не склонен заниматься этой частью вопроса, а только атакует интеллектуалов за их партийность. В некоторых местах это приобретает вид критики за неправильно выбранную партию зла, как в пассаже про «свору против скверны». Положим, все так и есть, но где главная, содержательная часть проповеди? На каких разумных основаниях следует различать справедливость и несправедливость, добро и зло, вечное и преходящее? Ведь перед нами, в сущности, как раз проповедь, оперирующая более или менее удачными риторическими выпадами, нежели логическими выводами.
Несомненно, отдельные доводы и целые страницы книг Бенда выглядят вполне разумно и убедительно. Сомнение вызывает то, как именно связан идеал рационализма с его фанатичной защитой в принципиально полемической, а не систематической форме. В то же время, как справедливо замечают исследователи, готовность Бенда разобраться с позициями критикуемых им мыслителей оставалась достаточно низкой, как и степень его проникновения в суть их аргументов. Он упрекает «предателей» в отказе от платоновской метафизики, не потрудившись для начала объяснить, почему и на каких философских основаниях такой упрек может сегодня считаться уместным. В конце концов, от нее отказался не только Бергсон, но и Спиноза! Во всяком случае, в тех аспектах, которые делают его учение не просто специфическим, а интересным и новаторским. Даже если мы не придерживаемся историзма и филологической строгости, а отстаиваем philosophia perennis, Платон все-таки один. Что уж говорить о Сократе и тем паче об Иисусе.
Таким образом, в облике сочинений Бенда — сколь угодно спорных, но достойных вдумчивого чтения, а не просто бездумных ссылок — перед нами оказывается тот самый оправданный выход интеллектуала на площадь: не ради частных интересов или славы, но для защиты поруганной истины и справедливости. Поступок столь же благородный и вызывающий сочувствие, сколь и слабый в своем непосредственном эффекте. «Конец вечности» — это печальная констатация факта, если не крик отчаяния. Время вечности уходит. В этом смысле Бенда выступает не как богослов разума, но как реакционер и даже контрреволюционер, защитник гибнущего старого порядка и его традиций духовной жизни перед лицом торжества лжеапостолов повседневности.
Само по себе это ничего не говорит. Старые порядки бывают лучше и хуже новых. Но кое-что это говорит нам о ситуации, в которой Бенда оказался и которой, несмотря ни на что, дал вполне трезвую характеристику. Представляется, что и сегодня, когда границы между храмом и рынком окончательно стираются, некоторые из его пламенных речей в защиту разума имеют значение едва ли не большее, чем сто лет назад. И эта злободневность лишь усугубляет трагедию — не только эпохи, описанной Бенда, но и его собственного интеллектуального порыва. Рационализм в исповедуемом им смысле — удел небольшого круга энтузиастов-хранителей культа, членов слабеющей катакомбной церкви, раздираемой догматическими противоречиями, предательствами и расколами. Можно не сомневаться: настоящие интеллектуалы никогда не исчезнут, пока жив человек, но борьба их будет продолжаться до скончания времен. Вероятно, тогда-то наступит вечность, и разум победит. Но не сегодня.