Прошлое — чужая страна
8 книг об историзме
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Как правило, трудящиеся в цеху историков профессионалы не слишком интересуются методологическими премудростями, которыми озабочены теоретики. Однако всякий приличный историк так или иначе обдумывает принципы своего ремесла, решает, как отбирать факты, какой терминологией пользоваться и почему. Иначе говоря, историку время от времени приходится выйти на тропинку философии. У философии истории есть два значения. Первое и более раннее связано с поиском универсальных закономерностей исторического развития. Такие идеи восходят к литературе иудейских пророков и христианской эсхатологии. В том или ином виде они возобновляются в самых разных построениях, далеко не всегда имеющих отношение к истории как науке или даже к философии. Напротив, более современное понятие «философии истории» относится к размышлениям о методе исторического познания как особого рода интеллектуальной деятельности, отличного от наук о природе. Два смысла этого термина связаны между собой по происхождению, но кардинально отличаются по смыслу. Уже в трактатах его изобретателя Вольтера можно обнаружить напряжение между поиском внутренней логики всей истории и стремлением к познанию прошлого как такового. Постепенный переход от первого ко второму ознаменовал становление исторической науки и появление соответствующего принципа историзма.
Историзм — это представление о прошлом как особой реальности, устроенной не так, как наша современность. Все факты и события свидетельствуют о своем времени. Все, что делает человек, исторично, находится в контексте эпохи, а часто и обусловлено им. То, что казалось самоочевидным древнему греку, уже не было таковым для средневековых крестьян. Наши современные понятия далеко не всегда применимы к реалиям иных эпох. С другой стороны, сами собой разумеющиеся вещи редко находят отражение в исторических памятниках. Шумеры и древние китайцы видели себя иначе, чем мы видим их сегодня. Поэтому задачей историка становится такое знание о прошлом, которое превосходит знание современников. Всякая эпоха неповторима и ценна для историка сама по себе. Историка интересует прошлое как таковое, прошлое в его специфике. Следовательно, историк понимает, что и сам в некоторой степени ограничен собственной эпохой, а не парит над историей. Прошлого в том виде, в котором мы его знаем, могло не быть — как, собственно, и настоящего. Историзм подчеркивает индивидуальность, творческий аспект всякой культуры. События не подчиняются строгим правилам по типу законов природы, они не следуют друг из друга, но находятся в более сложных отношениях. Таким образом, историзм предполагает разграничение природы и культуры, мира естественной необходимости и мира свободной причинности. Без подобного отношения к предмету немыслима история как наука. Не вызывает удивления, что историзм возникает вместе с оформлением модерна как отдельной, ни на что не похожей эпохи. Смысл понятия «Новое время» в том и заключается: это время, в которое люди осознают свою историчность, свое отличие от предшествующих поколений, и исходит из этого в самопознании.
Идея историзма кажется нам самоочевидной, но такой она была не всегда. Даже вечные истины когда-то были сформулированы впервые, поскольку мир идей — это мир творческий, мир возникновения нового, доселе не бывшего. Иными словами, мир исторический. Понимание этого в историческую науку приносит как раз историзм. Принципы, так или иначе лежащие в основе любого современного исторического исследования, должны были возникнуть, ведь историческая наука в понятном нам виде не существовала всегда. Великие древние греки Геродот и Фукидид справедливо считаются родоначальниками истории, но все-таки их классические труды значительно отличаются от современных исторических работ. С другой стороны, в истории редко что-либо сохраняется в неизменном виде. Сегодня существуют влиятельные школы исторической мысли, подверженные влиянию историзма в самой незначительной степени. Такие историки относятся к прошлому как вариации на тему одних и тех же универсальных законов — экономических, общественных или каких-то еще — и в этом смысле прошлое почти не отличается от настоящего. Поэтому стоит сказать, что в более строгом виде принципы историзма сегодня прослеживаются, как правило, в области интеллектуальной истории, то есть исторических исследований, сама суть которых заключается в понимании прошлого в его творческой специфике, а не извлечении оттуда универсальных истин в готовом и автоматически понятном виде. Здесь можно назвать ряд таких влиятельных направлений, как философская герменевтика, школа Йоахима Риттера и «история понятий» Райнхарта Козеллека, Кембриджская школа политических языков и даже поздние «генеалогические» исследования Мишеля Фуко. Так или иначе сегодня принципами историзма руководствуются в историографии самых разных явлений, от республиканизма до повседневных практик. В конце концов, ключевым материалом для большинства историков служат письменные памятники, свидетельства людей прошлого о самих себе.
До сих пор шла речь об историзме в широком смысле — как о принципе научного исторического познания. В узком смысле, однако, речь идет о специфическом явлении немецкой культуры, известном как Historismus. В силу стечения уникальных обстоятельств, немецкие мыслители XIX в. действительно внесли решающий вклад в становление историзма в широком смысле. Но и до, и после схожие идеи развивались по всей Европе, поэтому есть резон различать историзм как принцип и историзм как немецкое интеллектуальное течение. Большой путанице в этом вопросе способствовал знаменитый философ Карл Поппер. В книге «Нищета историцизма» он различал «историцизм» как представление об устойчивых законах истории, предопределяющих всякие конкретные изменения, и «историзм» как сопоставление явлений с доминирующими интеллектуальными установками в ту или иную эпоху. Главными философскими врагами Поппера были «историцисты» Гегель и Маркс, чьи концепции гораздо ближе философии истории в старом смысле, нежели историзму. Неслучайно построения Гегеля подвергали критике «отец исторической науки» Леопольд фон Ранке и его ученик Якоб Буркхардт. Сегодня исследователи сходятся в том, что Поппер не очень хорошо понимал критикуемых им мыслителей. Вероятно, это даже и не входило в его задачи, поскольку Поппер атаковал преимущественно политических деятелей, пользующихся гегельянством и марксизмом как инструментами обоснования тоталитарных идеологий. Очевидно, самоисполняющиеся пророчества не имеют отношения ни к историзму, ни к науке. Впрочем, «истористов» Поппер также не жалует, но по крайней мере не уделяет им особого внимания. Несмотря на все это, в английском языке до сих пор существует тенденция употреблять слова historism и historicism как синонимичные обозначения историзма. При этом historicism остается гораздо более популярным и привычным вариантом, поскольку так немецкое Historismus переводилось изначально. Стоит заметить, что и в других языках это слово традиционно передают похожим образом, например, historicisme во французском или storicismo в итальянском. В русском языке, однако, доминирует «попперовская» тенденция, связанная с длительным доминированием в академии догм исторического материализма.
Становление историзма
 Большинство исследователей сходится в том, что предтечей историзма был неаполитанский мыслитель Джамбаттиста Вико. Хотя прямое влияние его книги «Основания новой науки об общей природе наций» (1725) до XIX-XX вв. было весьма ограниченным, именно в ней впервые обнаруживается отчетливо выраженный дух историзма. История объявляется здесь подлинной реальностью человеческой культуры. Наука о человеке не может быть устроена по картезианскому образцу формального естествознания, но должна быть конкретной и исторической наукой. Причудливый язык, непривычная структура и новаторский характер аргументации помешали современникам оценить проект Вико по достоинству. Сегодня его наследие широко изучается по всему миру не в последнюю очередь благодаря усилиям другого выходца из Неаполя Бенедетто Кроче. «Новая наука» существует и по-русски, хотя и в несколько устаревшем переводе. Эта мало на что похожая книга не входит в наш список литературы только потому, что она выбивается из всех рамок, содержит в себе гораздо больше, чем простое предвосхищение историзма, и потому достойна отдельного внимания. Как, впрочем, и вся барочная литература, по многим причинам, объективным и не очень, обделенная вниманием русских читателей и издателей.
Большинство исследователей сходится в том, что предтечей историзма был неаполитанский мыслитель Джамбаттиста Вико. Хотя прямое влияние его книги «Основания новой науки об общей природе наций» (1725) до XIX-XX вв. было весьма ограниченным, именно в ней впервые обнаруживается отчетливо выраженный дух историзма. История объявляется здесь подлинной реальностью человеческой культуры. Наука о человеке не может быть устроена по картезианскому образцу формального естествознания, но должна быть конкретной и исторической наукой. Причудливый язык, непривычная структура и новаторский характер аргументации помешали современникам оценить проект Вико по достоинству. Сегодня его наследие широко изучается по всему миру не в последнюю очередь благодаря усилиям другого выходца из Неаполя Бенедетто Кроче. «Новая наука» существует и по-русски, хотя и в несколько устаревшем переводе. Эта мало на что похожая книга не входит в наш список литературы только потому, что она выбивается из всех рамок, содержит в себе гораздо больше, чем простое предвосхищение историзма, и потому достойна отдельного внимания. Как, впрочем, и вся барочная литература, по многим причинам, объективным и не очень, обделенная вниманием русских читателей и издателей.
Сам термин «историзм» впервые встречается у Фридриха Шлегеля. Как и другие романтики, он был очарован прошлым в его неповторимости. Романтики по-своему продолжали линию великого основателя искусствознания Иоганна Иоахима Винкельманна и всего неогуманистического движения, которое стремилось к наиболее аутентичному познанию и реабилитации классической древности. Античность теперь следовало воспринимать не просто как мраморные изваяния вечных законов истины и красоты, но как живой образец для подражания, полемики и творческого присвоения классических идей культурами молодых наций. Романтики же противопоставили универсально значимому классицизму интерес к национальным истокам культуры, лежащим где-то в тумане Средних веков. Иоганн Готфрид Гердер развивал эти устремления в своей знаменитой книге «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791). Он отказался от формального универсализма философии Просвещения, подчеркивая историческую уникальность и, соответственно, право на независимость каждой культуры в мировой семье народов. Неслучайно Гердер одним из первых обратил внимание на самобытность славянских народов, за что сегодня его иногда называют «отцом славистики».
В первой половине XIX века под влиянием романтизма складывается Историческая школа права, прежде всего связанная с творчеством Фридриха Карла фон Савиньи (1779–1861). Приверженцы этого направления утверждали, что источником права является не разум или естественный закон, но живой дух народа. По-настоящему историзм оформляется в творчестве немецких историков Леопольда фон Ранке (1795–1886) и Иоганна Густава Дройзена (1808–1884), а также их последователей. Ранке принадлежит афоризм, лаконично выражающий суть принципа историзма: всякая эпоха имеет непосредственную связь с Богом. Это означает, что духовная жизнь любой эпохи уникальна и специфична, ее отношение к каким бы то ни было вечным и неизменным ценностям всегда является исторически конкретным, поэтому к прошлому нужно относиться как к миру со своими законами, а не экстраполировать на него наши современные представления. Историк должен познавать, как все было на самом деле, а не рассказывать поучительные истории. С творчеством Дройзена связано становление исторической науки в точном смысле слова. Он предложил считать задачей исторического познания не причинно-следственное объяснение, но понимание прошлого. К концу ХХ в. приобретает влияние Историческая школа экономики, в основе которой лежит исследование национальной специфики хозяйственной жизни. Решающий вклад в философскую разработку принципов историзма внес выдающийся ученый и мыслитель Вильгельм Дильтей (1833–1911), который предложил четкое различение естественных и гуманитарных наук, тем самым обосновав самостоятельность истории как науки. Под его влиянием основатели баденского неокантианства Вильгельм Виндельбанд (1848–1915) и Генрих Риккерт (1863–1936) разрабатывали индивидуализирующий подход к методологии исторического и гуманитарного познания. Однако уже в неокантианстве принципы историзма претерпевают первый значительный кризис, поскольку другой важный аспект этой школы мысли заключался в постулировании учения о ценностях. Для того чтобы современный историк мог познавать прошлое, не впадая в анахронизм, но при этом избегая релятивизма разрозненных эпох, он должен соотносить факты истории с миром объективно значимых ценностей.
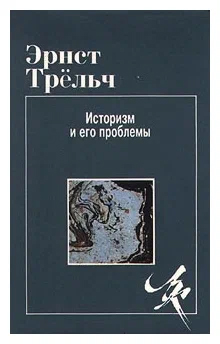 Ключевая фигура, которую следует назвать в данном контексте — протестантский теолог, теоретик культуры, социолог, а также либеральный политический деятель Эрнст Трёльч (1865–1923). Будучи одним из первых критиков и глашатаев кризиса историзма, впоследствии Трёльч разработал более тонкое и продуктивное понимание этого принципа, без которого, по его мнению, невозможна настоящая наука о культуре. Универсально значимые ценности, служащие мерилом всякого гуманитарного познания, должны уравновешиваться пониманием специфики исторического контекста. На русском языке доступен сборник его работ разных лет под названием «Историзм и его проблемы». Эта весьма объемная и довольно специальная книга, к сожалению, не переиздавалась с 1994 года. Тем не менее без нее невозможно по-настоящему погрузиться в тему. Кроме того, книга позволяет составить детальное представление об академической интеллектуальной культуре Веймарского периода.
Ключевая фигура, которую следует назвать в данном контексте — протестантский теолог, теоретик культуры, социолог, а также либеральный политический деятель Эрнст Трёльч (1865–1923). Будучи одним из первых критиков и глашатаев кризиса историзма, впоследствии Трёльч разработал более тонкое и продуктивное понимание этого принципа, без которого, по его мнению, невозможна настоящая наука о культуре. Универсально значимые ценности, служащие мерилом всякого гуманитарного познания, должны уравновешиваться пониманием специфики исторического контекста. На русском языке доступен сборник его работ разных лет под названием «Историзм и его проблемы». Эта весьма объемная и довольно специальная книга, к сожалению, не переиздавалась с 1994 года. Тем не менее без нее невозможно по-настоящему погрузиться в тему. Кроме того, книга позволяет составить детальное представление об академической интеллектуальной культуре Веймарского периода.
Вообще опасность релятивизма относится к наиболее серьезным издержкам историзма. Необходимость объяснять механизмы долговременной преемственности побуждает историков вводить в исследование какой-то вариант философии истории или неизменное начало, задающее меру. Кроме чисто методологических затруднений, у исторического релятивизма могут быть и политические следствия. В частности, на них обращал внимание философ Лео Штраус, защищавший концепцию «естественного права» и платонический взгляд на историю политических идей. Во многом полемика с учениками Штрауса привела к оформлению принципов уже упоминавшейся Кембриджской школы. Стоит отметить, что выдающиеся работы этой школы не сводятся к одной историографии, но представляют собой специфический вариант политической аргументации. Впрочем, такая двойственность характерна для всех школ исторической мысли, а не только для Historismus.
Другим объектом критики часто становилось характерное для историзма скептическое, подчас враждебное отношение к ценностному и познавательному универсализму и, в частности, к Просвещению. Недоверие ко всеобщим законам постоянно провоцирует у критиков обвинения в иррационализме. Среди таких критиков можно назвать социолога Карла Мангейма, философа Исайю Берлина, а также историков вроде Зеева Штернхеля, связывающих возникновение фашизма с проникновением в широкий культурный контекст принципов историзма. Действительно, историзм с его пристальным вниманием к национальным особенностям и индивидуальности оказался важным теоретическим источником европейского национализма. Из этого корня растут далеко не только радикальные идеологии, но и теоретические основания для освободительной борьбы ранее угнетенных народов, и мировоззренческая подоплека для культурного разнообразия, характеризующего современный мир. В космосе идей и тем более в пространстве политического действия ничто не происходит автоматически. Из философских построений напрямую не следует никакое наблюдаемое событие. Недоверие к универсализму в разной степени свойственно многим интеллектуальным течениям и идеологиям, им одним историзм не исчерпывается. С другой стороны, универсалистские притязания неоднократно оказывались подспорьем для тоталитаризма, империализма, террора, насильственной культурной унификации, централизации и других неприятных вещей. Тираны и вожди весьма вольно интерпретируют и применяют всякого рода доктрины, написанные совсем не для них.
Некоторые поверхностные обвинения историзма в иррационализме бьют совсем мимо цели, поскольку его теоретики никогда не выступали за отказ от разума. Напротив, речь всегда шла о более строгом и нюансированном пользовании методами рационального познания, за тонкую перенастройку научного поиска в соответствии с требованиями предмета. В конце концов, целый ряд мыслителей Просвещения оказал влияние на развитие философии истории и историзма: это французы Вольтер, Монтескье, Тюрго и Кондорсе, шотландцы Юм и Фергюсон, англичанин Шефтсбери, ирландец Бёрк и многие другие. В политическом же отношении большинство приверженцев классического историзма были либералами.
Несмотря на то что изначально историзму соответствует так или иначе идеалистическая философия, сегодня его принципами пользуются самые разные исследователи, вне зависимости от наличия у них какой бы то ни было философской программы. Современный историзм подчас выхолащивается до строгого контекстуализма, полагающего все понятия прошлого в большей степени обусловленными их интеллектуальным климатом, нежели свободой творчества авторов. В целом послевоенная европейская историография во многом под влиянием марксизма пошла по пути социальной и экономической истории, озабоченной скорее материальной историей, нежели историей духа. Впрочем, среди наименее догматичных историков-марксистов принципы Historismus продолжают находить отклик по сей день. Таким образом, хотя как самостоятельная школа историзм остался в прошлом, его наследие живет в качестве самоочевидных принципов историографии.
Предлагаемый ниже список произведений теоретиков классического историзма не является исчерпывающим. Он состоит только из доступных на русском языке публикаций. Для разнообразия здесь представлены работы авторов из разных стран. Все это книги довольно специальные, и в то же время это произведения выдающихся ученых старой школы, которые не боялись касаться тем, волнующих каждого человека. Проблематикой историзма далеко не исчерпывается творчество этих разносторонних и оригинальных мыслителей. Скорее можно говорить, что предпочтение исторического способа понимания человека и культуры пронизывает их теоретические поиски. Думается, что расположенный к некоторому философствованию или размышлениям об истории читатель сможет найти для себя много интересного в этих работах, даже если пропустит наименее понятные страницы.
Бенедетто Кроче «Теория и история историографии»
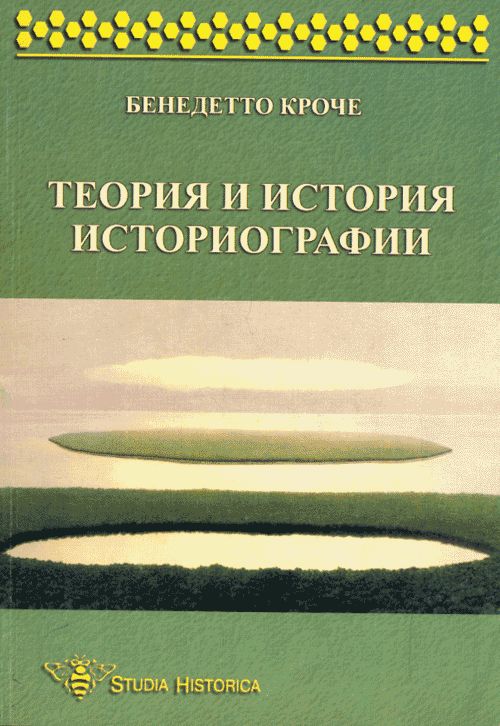 Творчество неаполитанца Бенедетто Кроче (1866–1952) пока что не очень широко представлено на русском языке, и даже его переведенные труды, к сожалению, не переиздаются. При этом Кроче является одной из ключевых фигур в интеллектуальном и политическом ландшафте Европы первой половины прошлого века. Его биография достойна отдельного рассказа. Достаточно упомянуть, что в годы фашизма Кроче был духовным лидером либеральной оппозиции режиму и автором «Манифеста антифашистских интеллектуалов». Хотя его философию принято считать изводом гегельянства, Кроче не стал прилежным учеником Гегеля и относился к наследию учителя без догматического трепета. Решающее влияние на его метод оказала концепция Вико, которую Кроче фактически открыл заново современному читателю. Кроме того, его перу принадлежит целый ряд сугубо исторических и искусствоведческих работ, до сих пор привлекающих внимание специалистов.
Творчество неаполитанца Бенедетто Кроче (1866–1952) пока что не очень широко представлено на русском языке, и даже его переведенные труды, к сожалению, не переиздаются. При этом Кроче является одной из ключевых фигур в интеллектуальном и политическом ландшафте Европы первой половины прошлого века. Его биография достойна отдельного рассказа. Достаточно упомянуть, что в годы фашизма Кроче был духовным лидером либеральной оппозиции режиму и автором «Манифеста антифашистских интеллектуалов». Хотя его философию принято считать изводом гегельянства, Кроче не стал прилежным учеником Гегеля и относился к наследию учителя без догматического трепета. Решающее влияние на его метод оказала концепция Вико, которую Кроче фактически открыл заново современному читателю. Кроме того, его перу принадлежит целый ряд сугубо исторических и искусствоведческих работ, до сих пор привлекающих внимание специалистов.
«Теория и история историографии» (1917) составляет часть более обширной системы, куда также входят работы по логике и эстетике, однако читается как самостоятельное произведение. Здесь Кроче формулирует некоторые базовые принципы проекта «абсолютного историзма». Подлинная история всегда современна, поскольку историк оживляет прошлое в познании. Историка интересует не мертвая хроника событий, он не занимается составлением списка артефактов, но стремится к пониманию людей и их мотиваций. Всякая история в конечном счете является историей духа или историей культуры. Историка интересует то, что имеет смысл, что является ценным, а значит, остается современным. Кроче отличает историю как собственно прошлое и всевозможные нарративы о нем от историографии, то есть исторической науки. В противовес позитивистам он полагает такую науку окончательным синтезом философии и филологии (в классическом смысле), в которой снимается противоположность абстрактного и конкретного. Философия бесконечно стремится к универсальной истине при помощи формальных логических средств, филология утоплена в глубинах фактов и документов, с которыми справляется средствами эрудиции. Только осознавая, что всякая история есть история духа, философия и филология становятся по-настоящему историческими, избавляясь от «призрака вещи в себе». История перестает быть нагромождением бессмысленных фактов или умозрительной схемой всеобщего развития, и тогда суждения историка могут стать не просто достоверными, но истинными.
«Ведь если вне связи с духом индивид не более чем сонный морок, то таким же сонным мороком является и дух вне его индивидуализации, а стать универсальным исторический взгляд может, только став индивидуализированным: всеобщее опирается на индивидуальное и наоборот. Если существование Перикла, Софокла и Платона нам безразлично, разве не станет нам от этого безразличным и существование Идеи? А кто выбрасывает из истории индивида, пусть хорошенько приглядится — он непременно заметит, что либо, вопреки своим намерениям, никого не выбросил, либо вместе с индивидом выбросил и саму историю».
Робин Джордж Коллингвуд «Идея истории», «Автобиография»
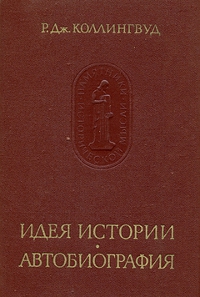 Р. Дж. Коллингвуд (1889–1943), как его обычно называют в литературе, представляет в нашем списке английскую науку. Один из крупнейших и в то же время самых недооцененных мыслителей своего поколения, он стоит особняком в истории британской философии и сегодня скорее известен по имени, чем по своим трудам. Во многом так произошло в силу его философского свободолюбия и нонконформизма. Коллингвуд был университетским профессором, но не примыкал ни к влиятельному в его время британскому идеализму, ни к нарождавшемуся новому мейнстриму аналитической философии. Он не принимал «сектантства», выделялся непривычной открытостью к диалогу и эклектичностью интересов. Биограф Витгенштейна и Бертрана Рассела, историк философии Рэй Монк даже полагает, что только преждевременная смерть не позволила Коллингвуду стать ведущей фигурой в британской академии и тем самым повернуть ее развитие от догматизма аналитической философии к более широкому мировоззрению.
Р. Дж. Коллингвуд (1889–1943), как его обычно называют в литературе, представляет в нашем списке английскую науку. Один из крупнейших и в то же время самых недооцененных мыслителей своего поколения, он стоит особняком в истории британской философии и сегодня скорее известен по имени, чем по своим трудам. Во многом так произошло в силу его философского свободолюбия и нонконформизма. Коллингвуд был университетским профессором, но не примыкал ни к влиятельному в его время британскому идеализму, ни к нарождавшемуся новому мейнстриму аналитической философии. Он не принимал «сектантства», выделялся непривычной открытостью к диалогу и эклектичностью интересов. Биограф Витгенштейна и Бертрана Рассела, историк философии Рэй Монк даже полагает, что только преждевременная смерть не позволила Коллингвуду стать ведущей фигурой в британской академии и тем самым повернуть ее развитие от догматизма аналитической философии к более широкому мировоззрению.
Коллингвуд находился под влиянием своего друга Кроче, чьи работы даже переводил на английский. Его изобретением принято считать английский термин historicism, введенный для передачи шлегелевского Historismus. Коллингвуд оказал решающее влияние на методологические принципы Кембриджской школы интеллектуальной истории, особенно на лидера этой группы Квентина Скиннера, защищавшего «коллингвудовский подход» перед лицом более влиятельных на тот момент критиков историзма. В отличие от своих последователей, Коллингвуд не боялся быть философствующим историком, и его историзм еще не настолько выхолощенный, чтобы относиться к понятиям прошлого в духе номинализма, как к случайным дискурсивным формам. Для него, как и для Кроче, всякая история — это история духа и подлинная стихия культуры. Историк в первую очередь стремится познать мотивацию действующих лиц прошлого. Всякое высказывание или событие он рассматривает как ответ на некоторый вопрос или вызов. Главная задача историка — понять, ответом на какой вопрос является то или иное высказывание или событие. Коллингвуд выступал резко против позитивистской истории «ножниц и клея», то есть простой компиляции фактов и свидетельств авторитетов прошлого. Настоящий историк стремится к пониманию прошлого в его специфике, а не подгоняет знание о нем под современные представления, сколь универсальными бы они ни казались. Только за счет способности к пониманию история возвышается до уровня особой науки, отличающейся во всем остальном от наук естественных.
Его главный труд, опубликованная посмертно «Идея истории» (1946), представляет собой яркий и доступный очерк философии истории. Прослеживая становление принципов историографии, Коллингвуд формулирует принципы собственного подхода. В соответствии с ними история и ее теория представлены здесь в неразрывной связи, поэтому читатель не будет утомлен нагромождением фактов или сухим изложением абстрактных формул. На русском языке работа издавалась в далеком 1980 году, под одной обложкой с «Автобиографией» (1939). Вопреки обманчивому названию, Коллингвуд не только увлекательно рассказывает о своей жизни и описывает атмосферу в британской академии начала XX в., но и формулирует важные теоретические положения. На русском также существует работа «Принципы искусства» (1938), написанная под влиянием эстетики Кроче. Отметим, что Коллингвуд не только внимал зову прошлого, но и чутко реагировал на вызовы настоящего, о чем свидетельствует не переводившаяся на русский книга «Новый Левиафан» (1942). В ней он стремится подвергнуть критике европейский тоталитаризм с позиций ученого-историка, показав подлинное устройство современных отношений между человеком, обществом, цивилизацией и варварством. Коллингвуд поспешил опубликовать эту книгу за несколько месяцев до смерти, отложив ради этого работу над более фундаментальными трудами по философии.
«Если мы хотим уничтожить капитализм или войны, и при этом не просто разрушить их, а создать нечто лучшее, мы должны начать с того, чтобы понять их — увидеть, какие проблемы успешно решает наша экономическая и международная система и как решение ею этих проблем связано с другими проблемами, которые ей не удается решить. Такое понимание системы, которую мы собираемся заменить, должно сохраниться в течение всей нашей работы по ее перестройке, сохраниться как знание прошлого, предопределяющее наше строительство будущего. Может быть, этого и нельзя будет сделать; наша ненависть к тому, что мы разрушаем, может помешать нам понять его, или мы можем так сильно любить его, что только в порыве слепой ненависти мы окажемся в состоянии разрушить его. Но если это так, по перед нами будет еще одно простое изменение, но не прогресс, как часто и случалось в прошлом. Наши усилия решить одну группу проблем приведут к тому, что мы упустим из виду решение другой группы. И сегодня мы должны понять, что никакой милостивый закон природы не спасет нас от последствий нашего собственного невежества».
Фридрих Мейнеке «Возникновение историзма»
 В отличие от большинства упоминавшихся выше авторов Фридрих Майнеке (1862–1954) однозначно входит в цех профессиональных историков, а не отвлеченных мыслителей. Вероятно, поэтому его имя знакомо в первую очередь историкам политических идей и институтов, а также специалистам по истории немецкой интеллектуальной культуры начала ХХ века. Майнеке считается изобретателем термина «история идей». Его перу принадлежит несколько влиятельных работ о становлении современного государства, в том числе исследований о политической философии Макиавелли. Кроме того, он был автором любопытной, хотя и небесспорной книги «Немецкая катастрофа. Размышления и воспоминания» (1946), в которой попытался осмыслить период нацистской диктатуры с консервативных позиций. На русском языке Майнеке, к сожалению, представлен лишь одной книгой, но зато раскрывающей наиболее важный нам аспект его творчества. Вместе с работой Трёльча «Возникновение историзма» (1936) составляет пару фундаментальных трудов по теме, без которых заинтересованный читатель совершенно не сможет обойтись. Здесь детально прослеживается постепенный отказ от восходящих к Античности универсалистских идей Просвещения в пользу современного исторического самопознания. Работа Майнеке относится уже скорее ко времени упадка и переосмысления историзма. Тем любопытнее, что в ней рассматриваются менее исследованные страницы его предыстории, в том числе французские и английские истоки. Скажем, Майнеке обращает внимание на исторический дискурс Анри де Буленвилье, который впоследствии вызовет живой интерес у Мишеля Фуко в его лекциях о «политическом историзме». Зрелый историзм в изложении Майнеке предстает в первую очередь специфическим явлением культуры Германии. В то же время его собственная книга — типичный образец классической немецкой учености, из чего следует скрупулезный, но несколько тяжеловесный стиль изложения. Впрочем, книга гораздо менее объемна и темна, чем труд Трёльча, к тому же совсем недавно был напечатан ее дополнительный тираж. Все это делает «Возникновение историзма» относительно доступным и незаменимым чтением для всех интересующихся проблемами философии и методологии истории.
В отличие от большинства упоминавшихся выше авторов Фридрих Майнеке (1862–1954) однозначно входит в цех профессиональных историков, а не отвлеченных мыслителей. Вероятно, поэтому его имя знакомо в первую очередь историкам политических идей и институтов, а также специалистам по истории немецкой интеллектуальной культуры начала ХХ века. Майнеке считается изобретателем термина «история идей». Его перу принадлежит несколько влиятельных работ о становлении современного государства, в том числе исследований о политической философии Макиавелли. Кроме того, он был автором любопытной, хотя и небесспорной книги «Немецкая катастрофа. Размышления и воспоминания» (1946), в которой попытался осмыслить период нацистской диктатуры с консервативных позиций. На русском языке Майнеке, к сожалению, представлен лишь одной книгой, но зато раскрывающей наиболее важный нам аспект его творчества. Вместе с работой Трёльча «Возникновение историзма» (1936) составляет пару фундаментальных трудов по теме, без которых заинтересованный читатель совершенно не сможет обойтись. Здесь детально прослеживается постепенный отказ от восходящих к Античности универсалистских идей Просвещения в пользу современного исторического самопознания. Работа Майнеке относится уже скорее ко времени упадка и переосмысления историзма. Тем любопытнее, что в ней рассматриваются менее исследованные страницы его предыстории, в том числе французские и английские истоки. Скажем, Майнеке обращает внимание на исторический дискурс Анри де Буленвилье, который впоследствии вызовет живой интерес у Мишеля Фуко в его лекциях о «политическом историзме». Зрелый историзм в изложении Майнеке предстает в первую очередь специфическим явлением культуры Германии. В то же время его собственная книга — типичный образец классической немецкой учености, из чего следует скрупулезный, но несколько тяжеловесный стиль изложения. Впрочем, книга гораздо менее объемна и темна, чем труд Трёльча, к тому же совсем недавно был напечатан ее дополнительный тираж. Все это делает «Возникновение историзма» относительно доступным и незаменимым чтением для всех интересующихся проблемами философии и методологии истории.
«Понятие индивидуальности и понятие развития тесно связаны в историцистском мышлении. Точнее говоря, историческое понятие индивидуальности требует от различных возможных понятий развития в качестве дополнения вполне определенного понятия развития, — причем такого, которое к признакам просто биологического и растительного развития, то есть простого раскрытия в соответствии с прирожденными тенденциями, добавляет признаки духовной спонтанности того, чтó развивается, и его пластической способности к изменению под влиянием единичных факторов, видя повсюду неразрывно связанными свободу и необходимость».
Хосе Ортега-и-Гассет «Тема сегодняшней эпохи», «История как система»
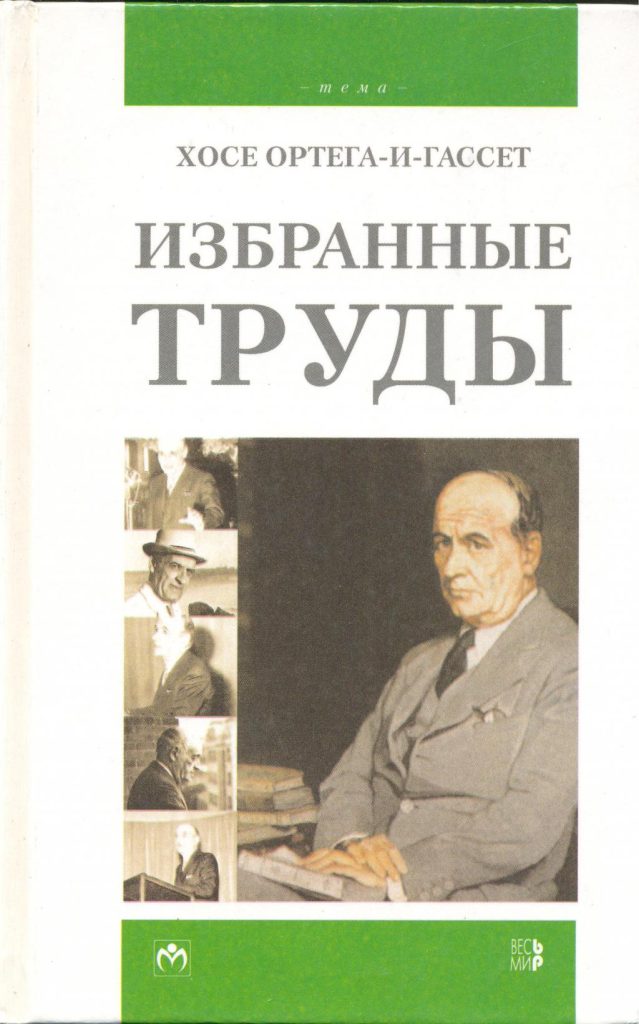 Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955), вероятно, самый знаменитый испанский философ в мире и в особом представлении не нуждается. Хорошо известно, что его идеи предвосхитили французский и немецкий экзистенциализм, однако о принадлежности Ортеги к классикам историзма в основном помнят только профессионалы. С самого детства он увлекался историей, что, должно быть, способствовало конкретике мышления. Это хорошо заметно по его книгам, которые никак нельзя назвать абстрактными и оторванными от жизни, а некоторые работы Ортеги об искусстве вполне можно рассматривать как сугубо исторические. В свою очередь, влияние его творчества широко распространилось не только на философов, но и на целый ряд историков Испании и Латинской Америки. Так в очередной раз подтверждается, что историзм не является оторванной от ремесла историка концепцией, но связан с его задачами напрямую.
Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955), вероятно, самый знаменитый испанский философ в мире и в особом представлении не нуждается. Хорошо известно, что его идеи предвосхитили французский и немецкий экзистенциализм, однако о принадлежности Ортеги к классикам историзма в основном помнят только профессионалы. С самого детства он увлекался историей, что, должно быть, способствовало конкретике мышления. Это хорошо заметно по его книгам, которые никак нельзя назвать абстрактными и оторванными от жизни, а некоторые работы Ортеги об искусстве вполне можно рассматривать как сугубо исторические. В свою очередь, влияние его творчества широко распространилось не только на философов, но и на целый ряд историков Испании и Латинской Америки. Так в очередной раз подтверждается, что историзм не является оторванной от ремесла историка концепцией, но связан с его задачами напрямую.
Труды Ортеги широко представлены на русском языке. Принципы историзма прослеживаются и в знаменитом «Восстании масс», и в «Дегуманизации искусства», и в «Размышлениях о Дон Кихоте», содержащих одно из его самых цитируемых высказываний: «Я — это я вместе с моими обстоятельствами, а без них нет и меня». Специальной разработке принципов историзма посвящен ряд небольших работ, прежде всего «Тема сегодняшней эпохи» (1923, по-русски в сборнике «Что такое философия», 1991) и «История как система» (1935, в «Избранных трудах», 2000). В отличие от гегельянцев Кроче и Коллингвуда, Ортега основал свою концепцию «исторического разума» на «философии жизни», марбургском неокантианстве и феноменологии, а ближайшим по духу мыслителем считал Дильтея. По его мнению, «геометрический разум» естественных наук, унаследованный позитивистами от эпохи Просвещения, не способен постигнуть прошлое в его живой конкретике. У человека и у истории нет вечной и неизменной природы, а потому их невозможно познать в соответствии с какими-либо универсальными законами. При этом «жизненный» или «исторический разум» не является иррациональной силой. Напротив, историческое познание требует еще большей строгости, чем, например, физическое, поскольку подразумевает постоянную рефлексию о собственных основаниях и постановку под вопрос любых авторитетов и предрассудков. Физик не сомневается в законе Ньютона, историк же постоянно пересматривает достижения его предшественников. Такой характер исторического познания существенно ограничивает его систематичность и универсальность. Однако в способности к живому диалогу с прошлым заключается и важнейшее преимущество истории как науки о человеке и культуре.
«История — систематическая наука о радикальной реальности, каковой предстает моя жизнь. Поэтому она является наукой о самом актуальном, действительном и подлинном „настоящем“. Если бы она не была наукой о настоящем, то где бы мы искали то прошлое, которое обычно предписывается ей как ее предмет? Противоположное, привычное нам утверждение равносильно тому, чтобы сделать из прошлого абстрактную и нереальную вещь, оставшуюся неподвижной там, в своем времени; но ведь прошлое — это живая и действенная сила, поддерживающая наше „сегодня“. Нет actio in distans [действия на расстоянии]. Прошлое находится не где-то там, в своем времени, а здесь, во мне. Прошлое — это я, это моя жизнь».
Раймон Арон «Введение в философию истории», «Критическая философия истории»
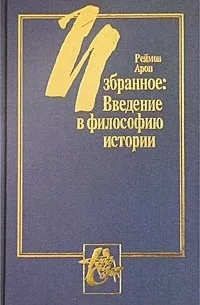 Во Франции историзм прижился не так хорошо, как в иных странах, а если и прижился, то в своей местной разновидности. Прежде всего это связано с наличием здесь не одной, а сразу нескольких мощнейших по своему влиянию школ, среди которых в первую очередь следует назвать школу Анналов. Конечно, Марк Блок или Люсьен Февр совсем не были поборниками анахронизма, и их разногласия с мейнстримом немецкой науки фактически не касались базовых принципов историзма. Однако были во Франции и свои защитники Historismus в более узком смысле, в том числе небезызвестный российскому читателю Раймон Арон (1905–1983). Это обстоятельство не должно вызывать удивления, учитывая тесную связь Арона с немецкой академией и глубокое знание интеллектуальной культуры Германии, а также известный скептицизм по отношению к марксистским историософским построениям. На русском языке Арон представлен преимущественно как социальный и политический мыслитель, однако даже в этих работах отчетливо прослеживается дух историзма. Непосредственному рассмотрению этой проблематики посвящены две ранние (обе 1938) работы Арона, изданные по-русски под одной обложкой в книге «Избранное. Введение в философию истории» (2000). В семидесятых Арон еще раз вернулся к историзму в «Лекциях о философии истории» (доступны по-русски), но уже в контексте диалога с аналитической философией. Похожий поворот к англо-американской традиции произошел и в творчестве Поля Рикёра, тоже много писавшего о проблемах исторического познания.
Во Франции историзм прижился не так хорошо, как в иных странах, а если и прижился, то в своей местной разновидности. Прежде всего это связано с наличием здесь не одной, а сразу нескольких мощнейших по своему влиянию школ, среди которых в первую очередь следует назвать школу Анналов. Конечно, Марк Блок или Люсьен Февр совсем не были поборниками анахронизма, и их разногласия с мейнстримом немецкой науки фактически не касались базовых принципов историзма. Однако были во Франции и свои защитники Historismus в более узком смысле, в том числе небезызвестный российскому читателю Раймон Арон (1905–1983). Это обстоятельство не должно вызывать удивления, учитывая тесную связь Арона с немецкой академией и глубокое знание интеллектуальной культуры Германии, а также известный скептицизм по отношению к марксистским историософским построениям. На русском языке Арон представлен преимущественно как социальный и политический мыслитель, однако даже в этих работах отчетливо прослеживается дух историзма. Непосредственному рассмотрению этой проблематики посвящены две ранние (обе 1938) работы Арона, изданные по-русски под одной обложкой в книге «Избранное. Введение в философию истории» (2000). В семидесятых Арон еще раз вернулся к историзму в «Лекциях о философии истории» (доступны по-русски), но уже в контексте диалога с аналитической философией. Похожий поворот к англо-американской традиции произошел и в творчестве Поля Рикёра, тоже много писавшего о проблемах исторического познания.
Пристальное внимание Арона к немецкой культуре в довоенное время преследовало гуманитарные цели. Он стремился популяризировать во Франции доктрины неизвестных на тот момент Вильгельма Дильтея, Макса Вебера, Георга Зиммеля и Генриха Риккерта. С началом Второй мировой Арон, к тому моменту получивший докторскую степень, был мобилизован, а после поражения французской армии эмигрировал в Лондон и присоединился к «Сражающейся Франции» де Голля. Впоследствии все творчество Арона было направлено на утверждение либерализма и критику тоталитарных идеологий. В конце жизни Арон выступал с показаниями в пользу Бертрана де Жувенеля. Тот подал в суд (и в итоге выиграл) на уже упоминавшегося Зеева Штернхеля за клевету, который в достаточно спорной книге «Ни левые, ни правые. Фашистская идеология во Франции» называл имя Жувенеля в ряду симпатизировавших фашизму «нонконформистов». Среди прочего, Арон охарактеризовал книгу как «абсолютно а-историческую», указав на расплывчатость определений и отказ рассматривать события в историческом контексте. Считается, что свидетельства Арона сыграли решающую роль в исходе дела. Так историзм, можно сказать, послужил не только задачам науки, но и защите человеческого достоинства.
Во всех работах Арона хорошо заметно, как переплетаются между собой историзм и социологизм, исследование культурных и общественных особенностей. Еще до исследований по философии истории он опубликовал книгу о становлении немецкой социологии. Как и всякая современная наука, социология возникала, постепенно обосновывая суверенность своего предмета и методов перед лицом других дисциплин. Одни и те же явления могут объясняться, например, психологически или экономически. Социология настаивает на том, что законы социального действия составляют реальность своего рода, а потому требуют специфического отношения к себе посредством особых методов. Поскольку речь здесь идет о действии, обладающем субъективным смыслом, социология, как и история, является понимающей наукой. Обусловленность событий окружающим их контекстом можно трактовать по-разному. Если речь идет об уникальности прошлого и соответствии фактов мировоззрению эпохи, то перед нами историзм. Однако с тем же успехом можно рассматривать явления в связи с общественной структурой, и тогда даже историческое исследование может оказаться частью социологии. В своем творчестве Арон постоянно прослеживает взаимосвязь исторических и социологических структур и аргументов. Таким образом, даже преодолев раннее увлечение немецким неокантианством, Арон продолжал пользоваться его наследием.
«Мир историка есть мир нашей повседневной жизни в своей непосредственной целостности. Области, которые науки выкраивают и отделяют друг от друга, представляют собой некое единство в наивном сознании. Но наивность вовсе не ведет к упрощению. Все частные понимания принимают участие в истории, поскольку ее объект есть становление, в котором и через которое рождаются духовные миры. Наука изучает разом эти миры и становление, которое является их началом, а может быть, даже единством».
Рудольф Бультман «История и эсхатология. Присутствие вечности»
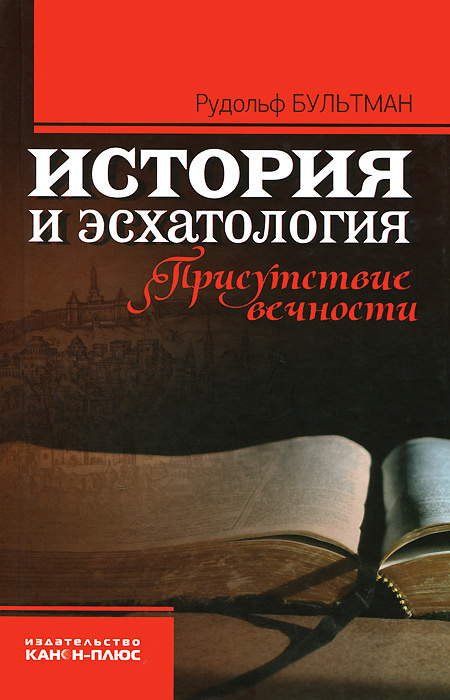 Рудольф Бультман (1884–1976) — один из наиболее влиятельных теологов ХХ в., крупная фигура в немецкой академии середины века. Считается представителем так называемой диалектической теологии. Его взгляд на толкование Библии во многом определил развитие религиозной и философской герменевтики. Он отстаивал исторический, «демифологизирующий» подход к Писанию, подчеркивал значение историчности фигуры Иисуса и выступал за экзистенциальное отношение к ней. Его понимание задач исторической науки сформировалось в значительной мере под влиянием Коллингвуда. Бультман обращался к широкой публике и стремился показать значение христианства для всякого современного человека независимо от его религиозных взглядов. Во время Второй мировой войны Бультман оставался в Германии, был членом сопротивлявшейся нацистам «Исповедующей церкви». Не вступая в открытую полемику с режимом, в проповедях он указывал на противоречие нацизма христианским принципам.
Рудольф Бультман (1884–1976) — один из наиболее влиятельных теологов ХХ в., крупная фигура в немецкой академии середины века. Считается представителем так называемой диалектической теологии. Его взгляд на толкование Библии во многом определил развитие религиозной и философской герменевтики. Он отстаивал исторический, «демифологизирующий» подход к Писанию, подчеркивал значение историчности фигуры Иисуса и выступал за экзистенциальное отношение к ней. Его понимание задач исторической науки сформировалось в значительной мере под влиянием Коллингвуда. Бультман обращался к широкой публике и стремился показать значение христианства для всякого современного человека независимо от его религиозных взглядов. Во время Второй мировой войны Бультман оставался в Германии, был членом сопротивлявшейся нацистам «Исповедующей церкви». Не вступая в открытую полемику с режимом, в проповедях он указывал на противоречие нацизма христианским принципам.
На русском издана одна из его работ об Иисусе, сборник философских и теологических сочинений, а также небольшая книжка «История и эсхатология» (1957), воспроизводящая его Гиффордские лекции 1955 года. Доступным языком здесь объясняются историографические принципы влиятельных авторов прошлого, в том числе уже упоминавшихся выше, а также обозначаются некоторые принципиальные затруднения историзма. Много внимания уделяется различению исторического познания и исторического переживания, связанного не столько со спецификой прошлого, сколько с представлением об общем смысле истории. Бультман намечает собственный подход, преодолевающий относительность историзма, и при помощи христианства находит универсальную точку опоры вне истории. Несмотря на простоту изложения, книга содержит весьма глубокие размышления о значении исторического знания для любого человека. Бультман предлагает оригинальный извод экзистенциализма, в чем-то близкий подходу Карла Ясперса, но практически свободный от эзотерической и тяжеловесной терминологии философов. Все это позволяет даже не слишком подготовленному читателю войти в насыщенный интеллектуальный контекст европейской философии истории и обнаружить там что-то важное для себя. Наконец, книга прокладывает мостики от проблематики историзма к другому, не менее интересному дискурсивному полю немецкой культуры середины прошлого века, которое можно для удобства назвать дискуссией о «легитимности Нового времени». Но об этом мы поговорим в другой раз.
«Человеку, который жалуется на то, что он не видит в истории смысла, а потому его вплетенная в историю жизнь стала абсурдной, можно посоветовать: не оглядывайся на всемирную историю, посмотри на свою собственную личную историю. Смысл истории всегда лежит в твоем настоящем, и ты не узришь его, пока ты наблюдатель, — он проступает в ответственном действии. В любом моменте дремлет возможность эсхатологического мгновения. Тебе нужно лишь пробудить его».