Пассивный индустриальный аттракцион
О книге Зигфрида Кракауэра «От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино»
Deutsche Kinemathek
Классическая работа Зигфрида Кракауэра «От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино» (1947), недавно перевыпущенная издательством «Ад Маргинем» без советских купюр, по-прежнему заслуживает самого пристального внимания, хотя несовершенство методологии автора книги со временем становится все более очевидным. Рассказывает Антон Прокопчук.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Зигфрид Кракауэр. От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино. М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. Перевод с английского Г. Шмакова, О. Улыбашевой. Содержание. Фрагмент
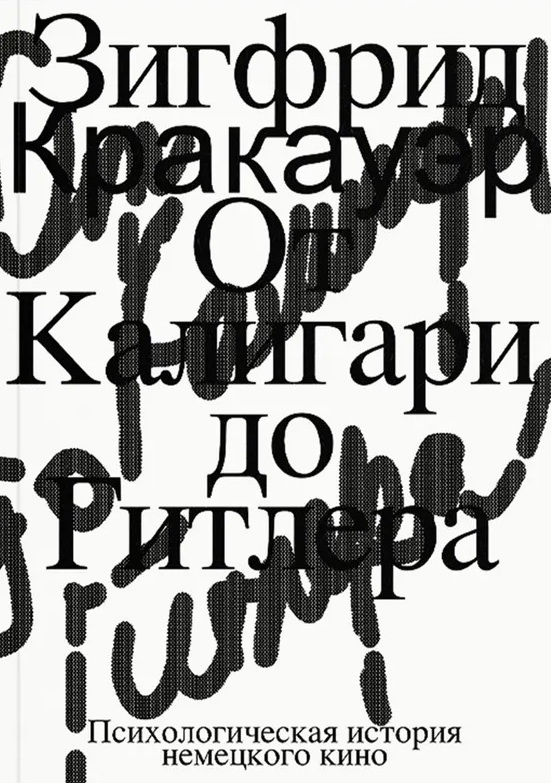
Книга «От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино» (1947) уже хорошо известного российскому читателю социального теоретика Зигфрида Кракауэра (1889-1966) до известной степени справедливо считается классикой киноведения. Однако достаточно открыть ее на первой странице, как тут же становится ясно, что ближайший предмет исследования здесь несколько иной. «Меня вовсе не интересует немецкое кино как таковое, — с порога заявляет автор. — Эта книга должна обогатить наши представления о догитлеровской Германии». В свете новейших тенденций книжного рынка долгожданное переиздание и без того недвусмысленной по своим задачам монографии (с несколькими приложениями) встает скорее в бесконечный ряд книг о приходе нацистов к власти, нежели на полку киноведа.
Конечно, случай Кракауэра не уникален. Достаточно назвать другое хрестоматийное исследование — «Демонический экран» (1955) Лотте Айснер, которая тоже усматривала в фильмах Веймарских времен отражение помутненного массового сознания молодой республики. Однако задачи и методология этих очерков были все-таки в первую очередь искусствоведческими. Напротив, работа Кракауэра, несмотря на подзаголовок, посвящена преимущественно «социальной психологии» на материале кинопродукции эпохи. Правда, «социальное» у него почти совпадает с «национальным», так что фактически речь идет едва ли не об исследовании «души народа» и социальных напряжений внутри конкретной нации в известный промежуток истории.
Разумеется, автору интересны не душевные метания отдельных персонажей или самих режиссеров, а то, как сознательные и бессознательные устремления всей страны воплощались на экране. Кинематограф выбран в качестве объекта не просто так: если он и смог точнее других искусств отобразить эволюцию настроений немецкого общества, то как раз в силу своей массовости. С одной стороны, кино с самого начала было предназначено для массового потребления и ориентировано на широкую публику. С другой стороны, его производство принципиально коллективно и предполагает вовлечение различных слоев населения, от потомственных аристократов и крупных промышленников до художественной богемы и простых поденщиков. Кроме того, в киноиндустрию вовлекаются по самым разным мотивам, от собственно художественных до экономических и, наконец, идеологических и политических. Стало быть, при помощи анализа кинематографа можно обнажить «незримую историю психологической жизни немецкого народа», кипящую «за обозримой историей экономических сдвигов, социальных нужд и политических махинаций», и, таким образом, понять, «почему Гитлер шел к власти и почему он ее захватил».
Кажется, что даже отдельные проницательные замечания чисто эстетического характера возникают у Кракауэра не из подспудной тяги к прекрасному, а строго в русле его метода — разновидности классового анализа, родственной идеям Франкфуртской школы. Хотя в книге и присутствуют элементы кинокритики и киноведения, к этим дисциплинам он относится скорее инструментально и, как правило, ссылается в подтверждение своих наблюдений на работы более влиятельных авторов вроде Белы Балажа или Гарри Потамкина. Декорации, сюжетные повороты, движение камеры — все это воспринимается как продиктованное денежными интересами и политическими предрассудками, а не собственной логикой стиля и образности.
Поэтому автор не ограничивается рассмотрением «шедевров» и обращает специальное внимание как на чистый авангард, так и на поточную и жанровую продукцию. На одном уровне с напрочь забытыми всеми, кроме историков кино, картинами оказываются выдающиеся произведения признанных мастеров вроде Пабста, Мурнау и Ланга, а также менее известные, но примечательные работы вроде «Улицы», «Девушек в униформе», «Куле Вампе» или фильмов Виктора Триваса. Такая широта взгляда обеспечивает достаточно репрезентативный обзор истории немецкого кино от зарождения до начала Второй мировой, а в приложении дается еще и анализ фильмографии Третьего рейха. Кроме того, в силу особенностей метода исследования, мы многое узнаем об устройстве индустрии и о вкусах публики тех времен. В этом смысле книга содержит богатый и ценный материал для любого историка кино первой половины ХХ века.
Одним из главных достижений и основной причиной ее высокой популярности можно считать довольно убедительную и внятную демонстрацию того, что бывает с эстетическими способностями искусства, из которого — поначалу аккуратно, затем все более насильственно и топорно — делают инструмент управления обществом. Иными словами, что бывает, когда искусство превращают в инструмент государственной идеологии, когда с его помощью пытаются залезть в голову подданным и что-то там подкрутить в нужную начальству сторону. Впрочем, кажется, что подобные рассуждения уж слишком злободневны. Современному читателю не нужно два раза объяснять, как это все работает. Вместо чтения книги объемом за четыреста страниц достаточно заглянуть, например, в афиши кинотеатров, как старомодных, так и онлайновых.
Более любопытно здесь то, что и для самого Кракауэра кино ценно в первую очередь как идеологический инструмент. На его взгляд, главная трагедия Веймарского искусства (как и республики в целом) состояла в том, что «прогрессивные» силы не сумели им воспользоваться. Как и среднестатистического зрителя, Кракауэра в целом не интересует, кто был режиссером тех или иных фильмов. Все они воспринимаются как плод коллективных усилий, отражающий коллективные же, а часто и вовсе партийные настроения. Не имеет значения и то, смотрели или нет нацистские вожди что-либо из классики немецкого киноэкспрессионизма — в «Кабинете доктора Калигари» все равно прячется Адольф Гитлер. Дело не в том, что фильм предсказал или предопределил ход истории. Дело в том, что он отразил, как, куда и почему немецкая история стремилась, но не посмел этому помешать.
Даже такой относительно взвешенный подход к толкованию кино как «симптома» все равно оказывается в меньшей степени анализом, чем ретроспективным описанием движения к неизбежной катастрофе. «Немецкая душа, измученная навязчивыми образами тиранического произвола в мире хаоса, которым управляют инстинкты, и живущая под угрозой рока, скиталась в мрачном пространстве, подобно призрачному кораблю из „Носферату“». Наивные сказки, наивное же следование бесчисленным новоявленным пророкам, упоение низкими развлечениями ночной жизни, в лучшем случае религиозное рвение или утешение красотами горных пейзажей — вот и все, что было доступно «отвратительно мелкобуржуазной», парализованной, обреченной и безвольно влекомой в бездну немецкой душе, которую Кракауэр, как порой кажется, ненавидит больше всего на свете.
Камера вообще снимает всегда современность, пусть даже тщательно декорированную и костюмированную под иные обстоятельства. Любое искусство так или иначе отражает свое время, но Кракауэр не ограничивается подобной констатацией. Немецкое кино, говорит он, не просто запечатлело свое время, оно без остатка исчерпывается этим запечатленным образом. Что это за образ? Коль скоро ничего светлого, никакой надежды в этих фильмах не просматривается, то и действительность, в пору заключить, не содержала в себе ничего положительного. Ничто не могло предотвратить катастрофу. Мелкобуржуазные немцы оказались не готовы к свалившейся на них революции 1918 года и не способны на новую революцию, которая укрепила бы республику и довела дело до конца. Несмотря на кратковременный подъем социал-демократических сил и, соответственно, расцвет политически «верных» фильмов, где «сквозил инакомыслящий дух», сражение за Германию было проиграно. Других вариантов не было, и от бунта послушные зрители вместе с режиссерами закономерно перешли к раболепству.
Отсюда и возникают чисто идеологические претензии Кракауэра к режиссерам, которые слишком увлекались «формой», но недостаточно внимания уделяли «содержанию» и не переходили от «изображения» действительности к ее «критике». В отдельных случаях такой пафос уместен, но чаще вызывает недоумение. Скажем, авангардного режиссера Вальтера Руттмана, снимавшего абстрактное «абсолютное» кино, автор упрекает, по сути, в том, что его «формалистские» эстетические принципы были политически неверны:
Если бы Руттман разделял революционные убеждения Вертова, он с гневом изобличил бы анархию берлинской жизни. Ему бы поневоле пришлось обратить большее внимание на содержание картины, нежели на ее ритм. Склонность Руттмана к ритмическому монтажу говорит о том, что, по сути, он старается уклониться от критических замечаний в адрес действительности, которая открыта его глазу. Вертов заставляет зрителя задуматься над содержанием фильма, Руттман его всячески маскирует. Это нежелание трезво оценить реальность вполне соответствует демонстративной увлеченности Руттмана берлинским ритмом и «маршем машин». Ритм — качество формальное, и оптимизм, который звучит в безоглядном культе машин, есть не что иное, как смутная «реформистская иллюзия».
Одним словом, сумбур вместо кино.
Ну хорошо, положим, «реформистский иллюзионист» Руттман остался в стране после 1933 года и запятнал свою репутацию, став если не сотрудником, то, во всяком случае, попутчиком нацистской киноиндустрии. Но точно такой же идеологической критики художественных принципов удостаивается и коллектив авторов фильма «Люди в воскресенье» (1930), практически в полном составе эмигрировавших в США, а впоследствии оказавших значительное влияние на облик «золотого века Голливуда»:
«Люди в воскресенье» — фильм, который одним из первых привлек внимание к образу «маленького человека». В одном эпизоде пляжный фотограф делает снимки, которые затем появляются в фильме. Однако карточки вмонтированы таким образом, словно сфотографированные люди внезапно замирают в средине действия. Когда эти люди движутся, они ничем не отличаются от обыкновенных, но стоит им застыть в стоп-кадре — они выглядят забавными, случайными фигурами. Если кадры в фильмах Довженко служат тому, чтобы раскрыть смысл, скрытый в человеческом лице или неодушевленном предмете, эти снимки словно предназначены для того, чтобы подчеркнуть, как незначительны мелкие служащие сами по себе. В комбинации с кадрами пустынных городских улиц и домов они служат подтверждением того духовного вакуума, в котором жила основная масса служащих. Однако это единственная мысль, о которой уже шла речь и которую можно извлечь из фильма, в целом столь же уклончивого в своих ответах, как и любые ленты «поперечного сечения» [в т. ч. картины того же Руттмана].
Кто видел этот трогательный гимн выходным дням, тот наверняка помнит, что смысл эпизода с фотографиями совсем в ином. Да, действительно, работяга живет в духовном вакууме, но потому он и фотографируется на пикнике, чтобы задержать в вечности сладкое мгновение свободы, когда он не винтик машины, а человек. Что и говорить о более сложных обобщениях, например об идее стоп-кадра в движущемся фильме как символа обывательской попытки сохранить ускользающее спокойствие и беззаботность в стране, где по улицам уже маршируют одетые в военную форму молодчики. Это лишь один из случаев, где более пристальный художественный анализ мог бы внести коррективы в идеологический приговор Кракауэра. Однако он систематически настаивает, что проваленная крупными режиссерами тех времен задача состояла в твердом следовании правильному политическому курсу, а не в решении эстетических задач:
Существенная слабость картины Пабста [«Западный фронт, 1918», 1930] заключается в том, что она не идет дальше пацифистского возмущения. Фильм стремится обличить чудовищность и нелепость войны, но при всем пафосе Пабст даже не задумывается над причинами ужасной бойни, не говоря уже об истолковании их. Там, где следовало бы задать вопрос, Пабст уклончиво молчит. Если Довженко в своем эпически-монументальном «Арсенале» (1929) изображает гражданскую войну на Украине как неотвратимый взрыв накопившейся классовой ненависти, фильм Пабста выражает лишь отвращение к войне вообще.
Даже «Товариществу» (или «Солидарности», 1931), где все акценты расставлены уже предельно внятно, Кракауэр пеняет на «социалистическую незрелость» и завершает обзор фильма такими словами, достойными всяческого удивления: «Пабст воспроизводит зрительно воспринимаемую реальность, но никак не проясняет ее скрытый смысл». Социальному критику как будто невдомек, что настоящее искусство творит реальность собственную. Художник не столько объясняет, сколько дополняет и тем самым изменяет окружающий мир.
В социально-исторических приговорах Кракауэра слышна отнюдь не аналитическая холодность и беспристрастность, а самый настоящий партийный догматизм. Высшей похвалы от него удостаиваются только те фильмы, независимо от их художественной ценности, где выразилась наиболее рьяная приверженность социал-демократическим и коммунистическим идеалам. Впрочем, даже их авторы получают по заслугам за все свои стратегические просчеты, ведь в конце концов у них не получилось предотвратить нацизм. Пускай в ряде случаев достаточно трезвый диагностически, все-таки общий взгляд Кракауэра на Веймарскую историю весьма тенденциозен. Это его свойство впору бы отнести к издержкам исторического материализма, если бы не отсутствие в нем всякой надежды на перемены и справедливое переустройство мира. Все случилось так, как и должно было. В отличие от современников вроде Эрнста Блоха или даже меланхоличного мессианца Вальтера Беньямина, но скорее в согласии с нынешними радикальными левыми, он смотрит на историю апокалиптически.
Сама по себе эта ангажированность, пожалуй, и не составляет проблемы. Ее можно понять и даже в чем-то посочувствовать, особенно учитывая, что книга вышла в 1947 году. Важнее здесь другое. Подобно камере, имеющей свои неизбежные ограничения вроде разрешающей способности, светочувствительности и т. п., теоретическая оптика видит только то, что может видеть. Как известно, технические ограничения можно использовать творчески, превращая дефект в эффект. Случается, впрочем, и наоборот. В конечном счете именно это происходит с методом Кракауэра: его «эффект» — отказ от эстетического анализа в пользу социальной критики — превращается в дефект.
Конечно, автор с самого начала дал понять, что его не интересует киноискусство, и пенять ему только на недооценку тех или иных фильмов — дело пустое. Проблема в том, что пренебрежение эстетикой искажает и социально-критический потенциал его исследования. Кино, практически избавленное от всякого художественного измерения, заранее не способно ни на какое творчество и созидание. Как и вся мелкобуржуазная немецкая душа, этот индустриальный аттракцион обречен пассивно отражать коллективные травмы и мрачную действительность. Кинематограф, которому отказано в праве считаться искусством, лишается всякой свободы творить, объяснять и критиковать, он подчиняется текущим экономическим или политическим интересам. Даже самый оригинальный стиль сколь угодно гуманистически, а то и социалистически настроенных авторов неизбежно видится в таком ракурсе слугой студийных воротил и самых низких ожиданий публики.
Поэтому не мудрено, что вооруженный настолько нечувствительной к свету оптикой наблюдатель видит в искусстве объективно тяжелых и темных времен только неизбежное приближение катастрофы. Собственно говоря, он видит только объекты, но не искусство, он видит тени, но не свет. Вероятно, оттого у него и не возникает даже намека на проклятый вопрос: как же нация певцов свободы и гуманизма, нация Гёте и Шиллера опустилась на самое дно тирании, насилия и бесчеловечности? И в то же время, как веймарское кино смогло породить не только жанровый ширпотреб, изобразивший фантазмы больного национального сознания, но и выдающиеся произведения искусства, до сих пор вдохновляющие художников и синефилов по всему миру? Или все дело в том, что немецкое помешательство, после короткой стадии послевоенной ремиссии, распространилось на весь мир, и только потому «упадочное» кино обреченной республики до сих пор созвучно действительности?
Признаться, порой именно такой вывод и хочется сделать, даже не будучи левым, а просто смотря некоторые из современных фильмов, не говоря уже о новостных сводках. И все-таки следует помнить, что наша история пока что не завершена. Кракауэр знает, чем закончилась та история, и было бы неправильно упрекать его книгу в трагичности финала. Проблема в том, что трагедия эта остается у него без всякой мотивировки. Мы не узнаем, почему все произошло так, как произошло. Мы только узнаем, что так должно было произойти.
К счастью, это не все. Кое-что мы узнаем и о том, как все это выглядело для современников на киноэкране. А это уже немало. Остается лишь пожелать читателям этой во многих отношениях примечательной книги иметь хоть немножко больше эстетического чутья и пристальности взгляда, чем смог позволить себе автор. И самостоятельно пересмотреть некоторые из описанных им фильмов. В противном случае история — впрочем, как всегда, — ничему их не научит. Ведь вынести из истории уроки может лишь человек, мыслящий и поступающий свободно, а не тот, которого она влечет за собой. Человек, который вслед за Шиллером и Гёте чтит искусство не как оружие в руках земных сил, но как свободную игру разума и воображения, устремленных к вечной безусловной красоте.