Апокалиптический саспенс
О книге Райнхарда Меринга «Карл Шмитт. Взлет и падение»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Райнхард Меринг. Карл Шмитт. Взлет и падение. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2024. Перевод с немецкого И. Ивакиной. Содержание. Фрагмент
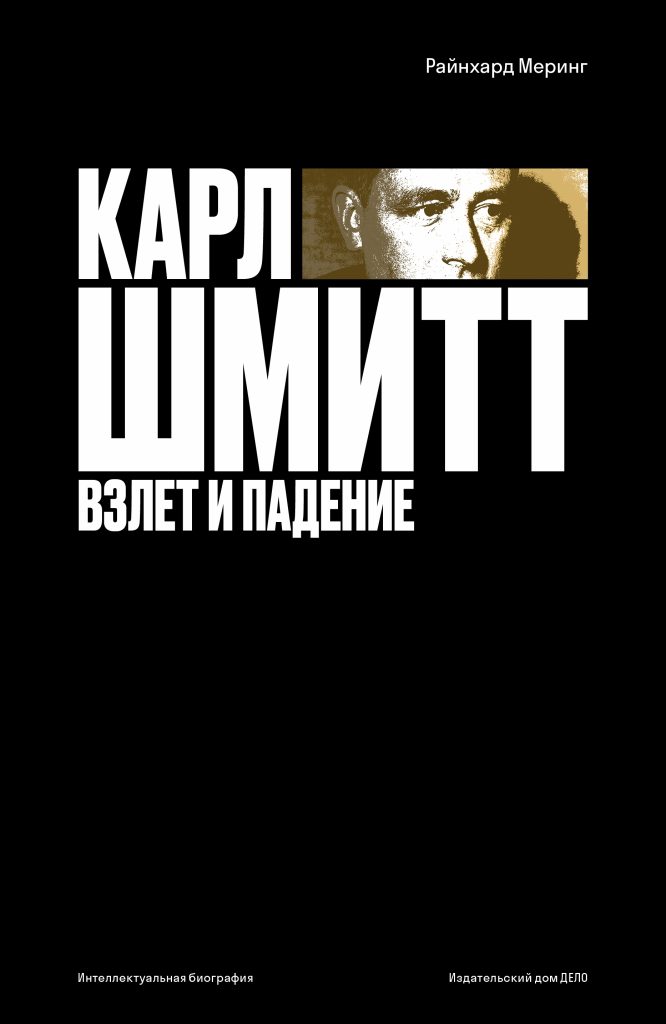 Карл Шмитт (1888–1985), пожалуй, не нуждается в особом представлении отечественному читателю. Выдающийся теоретик права, своеобразный историк политических идей, критик либерализма и член НСДАП, знаменитый и пресловутый, свидетель и соучастник большей части европейской истории ХХ века, он уже неплохо знаком весьма широкой публике. Многие его труды доступны по-русски в достойных переводах, а еще не переведенные произведения, вероятно, скоро дождутся своей очереди, поскольку их влияние на мировую политическую мысль не ослабевает. Тем важнее, что на русском появилась и его обстоятельная биография — наиболее полное и авторитетное на сегодняшний день исследование Райнхарда Меринга «Карл Шмитт. Взлет и падение».
Карл Шмитт (1888–1985), пожалуй, не нуждается в особом представлении отечественному читателю. Выдающийся теоретик права, своеобразный историк политических идей, критик либерализма и член НСДАП, знаменитый и пресловутый, свидетель и соучастник большей части европейской истории ХХ века, он уже неплохо знаком весьма широкой публике. Многие его труды доступны по-русски в достойных переводах, а еще не переведенные произведения, вероятно, скоро дождутся своей очереди, поскольку их влияние на мировую политическую мысль не ослабевает. Тем важнее, что на русском появилась и его обстоятельная биография — наиболее полное и авторитетное на сегодняшний день исследование Райнхарда Меринга «Карл Шмитт. Взлет и падение».
Эта книга несколько сложна для восприятия хотя бы даже с точки зрения объема: 650 широких страниц чистого текста, плюс еще сто с лишним на ссылки, примечания и указатели. Автор не отвлекает читателя стилистическими изысками от скрупулезного изложения обстоятельств жизни героя. Факты и свидетельства организованы чисто хронологически, поэтому на одной странице соседствуют сведения о знакомых Шмитта в данный период, краткий очерк его теоретических забот, разные бытовые подробности, дневниковые записи об эротических переживаниях и обидах, общеисторическая справка и т. п. Вполне четко, хотя и несколько эскизно, прослеживаются основные сюжеты интеллектуальной эволюции, включая наиболее скандальный вопрос о связи теорий Шмитта с его нацизмом и антисемитизмом. Книга предлагает богатый справочный материал для отечественных исследователей, в том числе детали многочисленных переписок, личных и институциональных взаимодействий. Меринг учитывает практически весь архивный материал, доступный на момент первой публикации в 2009 году. С тех пор библиография книги пересматривалась и дополнялась, специально и для русского издания, однако работа над архивом все еще продолжается. Несмотря на все это, при чтении не складывается ощущения исчерпанности каждой конкретной темы или объяснительного потенциала приводимых свидетельств. В целом же Меринг дает довольно ясную общую картину жизни Шмитта, превосходящую запросы большей части интересующейся публики. Очень многие сюжеты, затронутые здесь лишь по касательной, уже детально проработаны в специальных статьях и монографиях на многих языках, коих о Шмитте существует несчетное количество. При всех достоинствах проделанной российским издателем работы, не упрощают работу читателя некоторые ошибки, допущенные переводчиками и пропущенные научным редактором. К счастью, характер ошибок таков, что они практически не сказываются на понимании сути дела, но, вероятно, зацепят глаз специалистов. Впрочем, наверняка многие из них прочитали книгу еще в год выхода.
Есть трудности и другого рода, о чем сообщает сам автор в предисловии для русского издания: книга рассчитана на подготовленного читателя. Прежде всего это касается знания деталей немецкой интеллектуальной и политической истории. К чести Меринга, в книге приводится ряд биографических портретов второстепенных и малоизвестных у нас фигур, поэтому ее также можно рассматривать и как источник дополнительных сведений об истории Германии. Не получится использовать ее и как введение в идеи Шмитта. Хотя перед нами интеллектуальная биография, теоретическое развитие в ней дается лапидарно и в первую очередь в связи с историческим контекстом. Предполагается, что основные положения мысли Шмитта читателю уже известны. Конечно, в России его творчество отнюдь не обделено вниманием, хватает и рецепции разного качества, в том числе очень высокого, поэтому ознакомиться с теоретической частью не составляет трудности. С другой стороны, искушенные ценители Шмитта не найдут здесь радикально нового взгляда на его творчество. Книга не лишена любопытных замечаний чисто теоретического плана, но ценна в конечном счете не ими. «Интеллектуальную» часть биографии Меринг отрабатывает тем, что прослеживает зависимость взглядов своего героя от изменений в окружающем его духовном и политическом климате. По мере чтения становится ясно, почему такой ход вполне оправдан.
Наконец, главная сложность книги заключается в самих вопросах, которые ставят жизнь и творчество Карла Шмитта. Перед нами история сложного персонажа на переломе эпох, по-своему утонченного интеллектуала и человека бесспорно выдающихся способностей. Однако при всей глубине погружения в жизнь Шмитта, книга не дает впечатления личного знакомства. Он словно бы не скрывает никаких тайн, но остается для читателя, как и для большинства своих современников, загадкой. Немецкие философы того поколения хорошо понимали: сколь бы острым ни был человеческий интеллект, сам по себе он пуст, формален. Он призван упорядочивать разнородный жизненный опыт по единым правилам, но может служить каким угодно целям. Изнутри глубину и достоинство личности придают совесть и вкус. Из работы Меринга мы не так много узнаем о вкусах Шмитта или наличии у него каких-либо проблесков совести. Иногда автор даже намекает, что узнавать тут особо и нечего. Загадочность Шмитта кажется ширмой, скрывающей пустоту. Его индивидуальность проявляется в специфике реакций на события, которые случаются с ним, а не происходят по его вине. Политического теоретика не слишком заботят мелкие вопросы этики и эстетики. С этой точки зрения работу Меринга сложно рассматривать как попытку «очеловечить» своего героя. Перед нами, как и указано в подзаголовке, кропотливое изложение взлета и падения фигуры влиятельного интеллектуала вслед за временем, породившим его.
В некотором смысле любая биография мало-мальски знаменитого человека — это история без интриги. Заранее известно, чем все закончится, а поворотные для героя события не окажутся сюрпризом для читателя. С другой стороны, самому герою известно гораздо больше деталей конкретных обстоятельств, но не их развитие и финал. Поэтому бывает довольно тяжело описать жизненный путь значимой личности так, чтобы он пролегал по маршруту, предопределенному судьбой. При том что своего героя Меринг очевидно не любит, он тщательно и в целом беспристрастно соединяет биографические факты в единую историю без того, чтобы каждое новое слово или дело Шмитта свидетельствовали о неизбежном приближении катастрофы, которую мы заранее ждем. И все же у знакомых с темой читателей первая половина книги спровоцирует острое переживание саспенса. В какой момент из неприметного юриста герой превратится во влиятельного интеллектуала? За каким углом его поджидает роковое решение в пользу нацизма? Какие черты характера или обстоятельства жизни пробудили в нем антисемитизм? Саспенс кажется вполне уместным, особенно если помнить, в связи с чьим творчеством чаще всего употребляется этот термин. Однако в триллерах доброго католика Хичкока, как известно, нет невиновных. Есть те, кто покоряется судьбе, и те, кто прислушивается к тонкому голосу благодати. Только такие герои оказываются положительными, только они обретают в финале спасение.
Напротив, у Меринга мы до самого конца видим лишь беспросветное мельтешение исторической фактуры. Автор не выстраивает сколь бы то ни было сильных нарративов, не привносит логики в нагромождение фактов и событий, сквозь которые пролегает жизненный путь его персонажа. В каждый отдельный момент сложно сказать, куда что движется, только если не знать этого заранее. Саспенс не получает сюжетного разрешения, поскольку герой так и не узнает о бомбе под столом. Вероятно, судьба подложила ему «бесшумную мину», как охарактеризовал Эрнст Юнгер одну из работ Шмитта. После краха нацизма тот прожил еще сорок лет, наполненных важными встречами и интеллектуальной работой — пусть и не той же интенсивности, какая была в двадцатые и тридцатые. Разумеется, сотрудничество с нацистами бросает тень на всю его оставшуюся жизнь. Ее можно было бы рассматривать, например, в ракурсе возможного искупления или раскаяния. Меринг касается этой темы, но не позволяет ей управлять изложением материала. Не в последнюю очередь потому, что говорить о каком-либо раскаянии после войны не приходится. После катастрофы жизнь идет своим чередом.
Это вообще очень характерная черта книги. Годы Первой мировой здесь ровно так, как мы того ожидаем: патриотический угар, повседневный абсурд, национальная ненависть, социальное напряжение не просто окружают Шмитта, но составляют саму ткань его жизни в это время. Описание Веймарского периода вполне соответствует привычным его изображениям в популярной культуре, со всеми стереотипами о кипящей ночной жизни и эротической свободе на фоне гиперинфляции, разрухи и перестрелок между радикалами слева и справа. Перед нами пестрый калейдоскоп ярких проявлений жизни в самых интенсивных ее формах, однако единственное, что можно сказать о них в целом: «завтра была война». Во многом ощущение обреченности, неотъемлемое от любого рассказа о межвоенной Германии, и создает тот самый саспенс. Описывая отдельные феномены времени задним числом, мы склонны в каждой детали видеть всеобщее движение к краху и не замечать редких проблесков света, обещавших надежду на спасение. Того самого света, который освещал вершины человеческого духа, привлекающие наше внимание к этой эпохе и сегодня. Шмитт оказывается идеальным героем истории обреченного на катастрофу мира, поскольку он во всем туда вписывается. Его поступки преимущественно реактивны, как и его политические взгляды. Его отношение к отдельным неудачам едва ли не столь же апокалиптическое, сколь его видение истории мира в целом. Его лихорадит между присущими времени политическим католицизмом, деловитостью мышления юриста и экспрессионистской экзальтацией. Боевая и до сих пор местами релевантная критика модерна, либерализма и парламентаризма в его работах подчеркнуто развивается не вопреки эпохе, но внутри нее как ответ на текущие вызовы. Один из основателей дадаизма Хуго Балль, недолго друживший со Шмиттом в 1920-х, озаглавил свой дневник времен Первой мировой войны как «Бегство из времени». Можно сказать, что Карл Шмитт закапывался в свое время по самую макушку.
Понимая это, перестаешь удивляться, с какой готовностью он принимает новую реальность после 1933-го. Вплоть до конца войны его жизнь аналогична способу существования общества Третьего рейха. Шмитт называл себя «интеллектуальным авантюристом», Меринг изображает его скорее как интеллектуального оппортуниста. Такой человек пускается в авантюры, но только когда того требуют обстоятельства. Преимущественно такая атмосфера авантюрного приспособленчества и царила при нацистах, разрушивших механистичный порядок работы старой имперской бюрократии потоком личных декретов высшего руководства, тайных сговоров и взаимных доносов. Шмитт был страшно тщеславен и честолюбив, ему было важно устроиться не просто хорошо, но так, чтобы оказывать влияние и принимать судьбоносные решения. Он мечтал стать «фюрером фюрера», серым кардиналом Германии, способным исправлять глупости нацистских идеологов-недоучек и направлять их в правильное русло. Неудивительно, что он активно вовлекается в сотрудничество с новой властью на вершине ее возможностей, но весьма предусмотрительно залегает на дно, когда крах уже очевидно неизбежен. Справедливости ради отметим, что здесь Шмитт, как всегда, прогадал. Нацистам нужен был безусловный фанатизм, а не ситуативная адаптация. Намного большее требовалось от юриста, который за год до прихода Гитлера к власти защищал от его партии в суде интересы неделимой республики. Действительность слишком сложна и непредсказуема, чтобы адаптироваться к ней без остатка. Герой не знает, чем все закончится, но не может не строить догадок на этот счет. Та или иная эпоха завершится, ее сменит другая, но в целом все движется в одну сторону — прямиком к концу всего сущего. Человеку не остается ничего, кроме как цепляться за мало-мальски устойчивые структуры в потоке событий.
Апокалиптическими предзнаменованиями ведомы едва ли не все высказывания Шмитта. Эта обратная сторона и одновременно почва оппортунизма составляет, вероятно, одно из немногих его по-настоящему устойчивых убеждений. В двадцатые и тридцатые он пророчит крах либеральных парламентских режимов. В пятидесятые он прозревает закат современного миропорядка в целом, разрушение международного права в привычном виде и тотальное господство техники над человечеством. В конце шестидесятых, когда приходит время студенческих революций, Шмитт начинает едва ли не сближаться с левыми — не в последнюю очередь потому, что именно они реабилитируют его старые выпады против либерализма и парламентаризма в интересах уничтожающей критики разлагающегося мира. Теперь уже не он бежит за историей, но история возвращается к нему, что говорит нам не только о незаурядных аналитических способностях Шмитта, но и о состоянии духа эпохи. Даже в конце жизни Шмитт не отказался от амбиций тайного властителя дум. В новом мире он преуспел в их осуществлении гораздо сильнее, чем при нацистах, заразив своими идеями ученых, философов и политических деятелей всех идеологических мастей — от радикальных левых до либеральных консерваторов и крайне правых. И все благодаря действительно тонкому пониманию всеобъемлющей сферы смертельных войн, интриг и зон влияния на больших пространствах, каковой он считал политическое общение.
Детальность исторической фактуры в книге Меринга — не просто «неизбежный хронологический фон для жизни знаменитости», как это бывает в биографиях великих личностей. Не так уж и велика личность Шмитта, чтобы писать о ней в подобном ключе. С другой стороны, нельзя сказать, что история здесь как бы преломляется сквозь жизнь героя как призму. Скорее можно говорить о нем как черном зеркале эпохи. Особенно показателен один веймарский эпизод, когда женатый Шмитт водит проституток в кино на «Страсти Жанны Д’Арк». Из всего современного кинематографа, часто весьма мрачного, он впечатляется едва ли не самым ярким, визуально светлым произведением с отчетливо христианской интонацией, превращающей трагедию мученичества в притчу о благодати. Но фильм о смертельной борьбе отважной одиночки с угнетающим окружением он интерпретирует в сугубо националистическом ключе. В невыносимых метаниях души он ценит не душу, но метания, чистую экзальтацию, лишенную почвы. Католичество Шмитта, с которым он без особых сожалений порывает, когда того требуют обстоятельства, даже на этом примере кажется в первую очередь политической позой и эстетством (что несколько скандально для почитателя Кьеркегора). В крупных планах человеческих лиц он видит только беспросветную мглу окружающей действительности. Вероятно, он просто не способен увидеть свет благодати по ту сторону страданий. В какие бы времена ни жил такой человек, они оказываются темными. Нечто подобное могла иметь в виду и Анни Краус, одна из многочисленных любовниц обольстителя Шмитта, при нацистах вынужденная скрываться из-за своего еврейского происхождения:
«В 1948 году она опубликовала умное эссе „О глупости“, в котором вслед за Фомой Аквинским рассматривала глупость как „тупость сердца“. Это был ее ответ на опыт национал-социализма и ответ Карлу Шмитту, которому этот выпад причинил „много боли“. В своем „Глоссарии“ он отмечает: „Она ведет себя как маленький ангел смерти и при этом совершенно не принадлежит к обществу прокуроров и обвинителей, и если это произошло по моей вине и я способствовал тому, что она все-таки попала в [это общество], я сожалею об этом“ (GL, 205). Даже эти формулировки звучат неуместно. Однако сведение счетов, направленное лично против Шмитта, вряд ли могло бы быть более точным и уверенным: глупость как тупость сердца! Краус подхватывает христианскую критику „экзистенциалистской“ концепции политического Шмитта, сформулированную Гельмутом Куном в 1933 году, и доводит ее до диагноза тупости сердца. Как Шмитт мог жить со своим решением о поддержке национал-социализма? „Стыдно ли Вам, — спросили его в Нюрнберге, — что вы писали такие вещи в то время?“ „Это ужасно, конечно“, — ответил он в апреле 1947 года: „Нет слов, чтобы говорить об этом“ (AN, 66). Помимо молчания, он искал сдержанные формы выражения. Но с такой „глупостью“, такой неудачей нельзя было „справиться“. Об этом свидетельствуют также упрощения и фальсификации, ожесточенность и обвинения, которые он выражал в словах и поступках в эпоху национал-социализма».
Судя по числу знакомств, Шмитт был весьма обаятельным человеком — правда, очень часто до тех пор, пока собеседник представлял для него какой-то личный интерес. Разорвать отношения или прекратить переписку для него, как правило, не было большой проблемой, особенно когда это касалось бывших друзей или знакомых, в чем-либо его обвинявших. И все-таки важно, что сильнее других его ранит именно упрек в «тупости сердца» от человека, который к этому самому сердцу когда-то прикоснулся. Со времени первых своих теоретических работ Шмитт вообще был довольно глух к проблеме вины и отрицал саму уместность постановки вопроса в таких терминах. Казалось бы, нет темы более близкой юристу и католику, чем вина. Но как юрист он вплотную подходит к полному отказу вине в статусе правовой категории. Как католик он помнит о природной греховности человека, но не о его вине. Как человек, которому вменяют вину, он отказывается от самой мысли о виновности, о чем ярко свидетельствует квазимемуар Ex Captivitate Salus («Спасение из плена»). В этой небольшой брошюре, частично написанной в тюремном заключении в годы денацификации, Шмитт защищается от обвинений, ставя себя в положение историка, наблюдавшего за ходом событий. Он не слишком убедительно пытается доказать, что можно было находиться в чреве Левиафана, но не впускать Левиафана внутрь себя. Он не чувствует нужды оправдываться за свой интеллектуальный оппортунизм. В конце концов, время было такое. Пожалуй, никто и не обязан сопротивляться какой бы то ни было законной власти, особенно если речь идет о выживании. Но Шмитту не было достаточно просто выживания! Он впутывался в дела земных владык со всей душой, терял себя в стремлении подчинить эпоху, сливаясь с ней без остатка. И перед лицом обвинителей Шмитт старательно опровергает максиму «не хлебом единым жив человек», видя свое спасение исключительно в поддержании земной славы и благополучия, но чуткое сердце христианина не нуждается в инквизиции, чтобы помнить о вине.
Чем умнее человек и чем конкретнее он мыслит, тем больше абстрактных возвышенных понятий он способен опустить с небес на землю и, если понадобится, смешать с грязью. Критику любой идеологии не нужно далеко ходить за разоблачающими аргументами против ее сторонников, но только лишь потому, что дела не следуют из идей. Интеллекту все равно, ради чего он используется, будь то философские построения или организация работы концлагерей. Судя по его работам, Шмитт очень хорошо понимал, как из самой мирной и человечной риторики могут рождаться бесчеловечные зверства. Для него это становится основанием подозревать любой гуманизм в опасной наивности или даже злом умысле. Противовес этому — прагматичный «реализм», пессимистический взгляд на историю и человека как существо глубоко несчастное, неполноценное, боязливое и потому враждебное к окружающим. Шмитт и вправду знал очень многое о действительно присутствующем в мире зле. Чего он не знал, так это добра. Для человека, мыслящего таким образом, любая идея человеческого сосуществования оказывается чреватой большим или меньшим злом, направленным против конкретного врага. Любая собственная идея, в свою очередь, является для него оружием в ответной борьбе.
«В то время [1951 год] он писал Карлу Августу Эмге: „Все прекрасные слова, что вы говорите о „гуманизме“, естественно, относятся только к официально признанным лицам, к которым принадлежит любой первый встречный, но ни в коем случае не я. Гуманитарный силлогизм, который касается меня, звучит так: Каждый человек мне симпатичен, / Карл Шмитт мне не симпатичен, / Значит, Карл Шмитт — не человек“».
Конечно, Шмитт искусно изворачивается. Давление обвинителей причиняет ему самую настоящую боль, уязвляет самолюбие и тщеславие бывшего «юриста короны». В ответ он язвит с тройной силой, пытаясь навязать борьбу на своих условиях и вывести на чистую воду своих «лицемерных» врагов. Величайшая трудность состоит в том, чтобы принять эти ремарки вполне серьезно и не отбросить их сразу. В противном случае читатель рискует поддаться искушению и позабыть все безусловные различения добра и зла. Ведь даже самым светским людям хорошо известно, что грех отравляет не только душу грешника, но и его окружения. Критику международных трибуналов и свойственного нашей эпохе понимания войны, «дискриминирующего» врага как преступника, Шмитт предоставил самостоятельно, и нет нужды говорить о ней снова — соответствующие работы доступны всем желающим. По-человечески же ситуация ясна без дополнительных объяснений: невинные не склонны бросаться камнями, говорит нам хитрый юрист. Однако он не понимает, что оказался не просто на «неправильной» стороне истории, в лагере условных плохих парней. Он по своей воле оказался в плену истории, ведущей в пропасть, а не к спасению. Шмитт настаивал, что его судят всего лишь победители в очередной войне. Он стоял на позициях относительности всего, что происходит под Луной. За конкретикой борьбы он не видел абсолютного — ни добра, ни зла, способных найти единичное воплощение, не потеряв всеобщей значимости.
В 1912 году он мог написать:
«Я адвокат по характеру. Я готов защищать только то, что мне чуждо. Только такие явления я могу оправдывать без угрызений совести. Адвокаты весьма тонко чувствуют свою вину. Вся моя теория о преданности одной идее основана на этой характерологической особенности — готовности отдаться одному делу, одной идее, адвокатом которой приходится быть по наказу собственной личности».
В суде адвокат присутствует как представитель подзащитного, но как человек адвокат не виновен в его делах. Это, впрочем, не означает, что адвокат вообще ни в чем не виновен. Сознательно впутываясь в чуждый ему мир без остатка, он теряет себя, становится марионеткой естественных законов. Он не был причиной каких бы то ни было событий, он всего лишь наблюдал за ходом вещей, который защищал, цепляясь за его мнимую устойчивость как единственное спасение от неизбежного краха. Именно в этом и состоит его вина — в отказе от человеческой свободы. У Орлеанской девы адвоката не было и не могло быть. Она до самого конца не теряла себя, поскольку видела небесный свет и была свободна предпочесть его тяжести земного мира, в котором оказалась неподсудна.
В темные времена зло совсем не обязательно банально, но банальность зла. Признаться, этот сам по себе довольно дешевый каламбур не имеет особенно глубокого смысла, если только не понимать «банальность» предельно узко: как неприметность, конформность, полное соответствие духу эпохи, отсутствие подлинной свободы. Книга Меринга показывает, что Шмитт был именно таков. Он не был простаком, пожалуй, даже наоборот. Но человеческий интеллект — способность формальная, безразличная к целям, которым она служит. С нею можно делать что угодно, как с деньгами или проститутками. Несмотря на остроту и оригинальность ума, бесспорно присущие Шмитту, он пользовался ими как аналитик действительности, к которой стремился приспособиться. В конечном счете даже его «конкретное учение о порядке», сохраняющееся и в послевоенных работах, — всего лишь изощренная вариация на тему «чья власть, того и право». Историзм, свойственный всей мысли Шмитта, можно сравнить с «историзмом» его личности. То же самое касается его реакционных взглядов на политику и историю. Шмитт цеплялся за жизнь, пуская корни глубоко в землю, но не стремился расти к небесам. Поэтому во всем его творчестве, от самых ранних до самых поздних работ, сугубо посюсторонняя тема мифа играет гораздо большую роль, чем религия и теология. Поэтому он не был ни философом, ни теологом, ни, по-видимому, даже католиком. Вероятно, поэтому же он прожил столь долгую жизнь, свободную от потусторонних иллюзий.
К счастью или к сожалению, мы будем вынуждены обращаться к творческому наследию Шмитта еще довольно долго. Как никуда не деться нам от тяжелых вопросов о природе политического общения, войны и мира, свободы и насилия, так же нет, покуда мы живы, спасения и от компромисса между действительным и должным. Жизнь и мысль Шмитта безусловно заслуживают внимания, и не в последнюю очередь потому, что напоминают нам об опасности, таящейся за чрезмерным доверием законам этого мира, за чрезмерным стремлением к выживанию и славе, за сопутствующей этому покорности судьбе. Существует, однако, и противоположная крайность, о которой неустанно предупреждал Шмитт-теоретик: готовность разрушить этот ненадежный, порочный мир до основания, разменять неприглядную реальность на иллюзию грядущего благоденствия. Но только человек, которому этот мир глубоко чужд, может быть адвокатом природного зла. «Человек — не решение, но лишь начало наших проблем», — проницательно писал Шмитт, имея в виду, что человечность не должна быть аргументом и средством для чисто технических целей современной политики. Человек и правда нуждается в превосходящем его мире, но таком, которого не существует без человека. Только благодаря человеку в мире необходимости существует свобода. Значит, в мире есть нечто большее, чем законы тяжести. Стало быть, единственно возможный здесь компромисс — сохранять мир в озаряющем его свете, благодаря которому мы только и можем видеть других людей. Все остальное называется рабством.