Сооружая себе могилу: книги недели
Что спрашивать в книжных
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Жан-Батист Брене. Аверроэс Жуткий. М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. Перевод с французского Сергея Рындина. Содержание
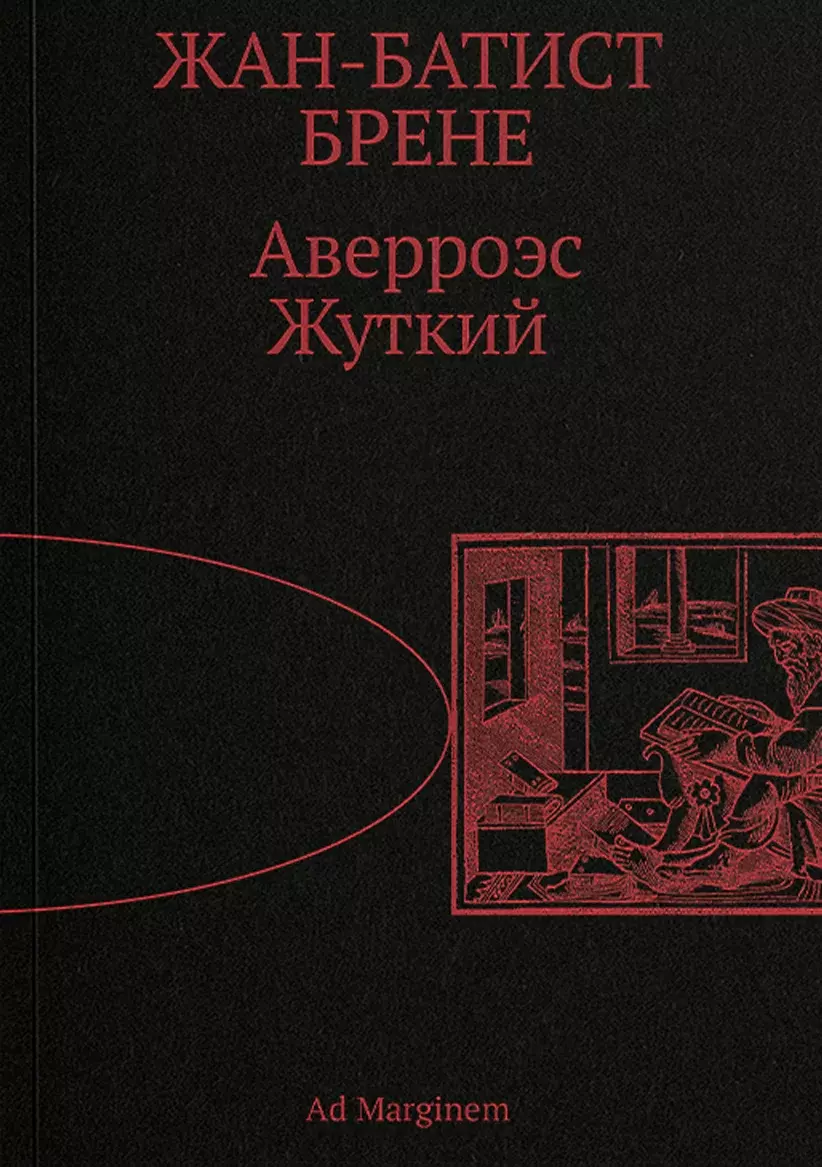
Если у безумного араба Абдула Альхазреда и был исторический прототип, то это, несомненно, Абу-ль-Валид Мухаммад ибн Ахмад Ибн Рушд, в Европе известный как Аверроэс. Философ из Кордовы не только передал латинским коллегам учение Аристотеля, но и крепко напугал их собственной интерпретацией аристотелевского учения о разуме.
Согласно Аверроэсу, разум, который мы горделиво считаем своим, на самом деле нам не принадлежит и существует отдельно. Он нематериален, никогда не творился и никогда не исчезнет, в отличие от человека, рожденного, чтобы умереть. Подобные построения, как показалось ученым современникам, унижают род людской — венец Божественного творения. Лучшие умы, первейшим из которых был Фома Аквинский, бросились опровергать аверроизм посредством логики и в итоге успокоили себя тем, что одержали над ним уверенную победу. Учение Аверроэса выпало из западной интеллектуальной традиции, и все облегченно вздохнули.
Французский философ Жан-Батист Брене видит во всем этом фрейдистские мотивы. Он предлагает психоаналитическую интерпретацию философской баталии, от исхода которой, как оказалось, зависела судьба европейской мысли, отталкиваясь прежде всего от понятия Unheimliche — «жуткое». Согласно Фрейду, жуть нам внушает не незнакомое, а, наоборот, хорошо известное, но по каким-то причинам переставшее быть таковым. Кто из нас не шарахался от собственного отражения в витрине на ночной, плохо освещенной улице? Вот и Аверроэс, уверен Брене, стал таким Unheimliche для латинян, разглядевших в нем неузнаваемую версию себя.
Несмотря на местами сложные завихрения ума, книга вышла крайне увлекательная и, главное, остроумная, чем-то напоминающая даже не Славоя Жижека, как можно было подумать, а Моргана Мейса — но без откровенного хулиганства.
«Аверроизм предстает некоей философией двойника в глазах его латинских противников, заставляя их панически копаться в себе. И дело не только в предвещающем либертинаж религиозном двуличии, которое виделось им в Аверроэсе и надолго стало клеймом, если не сказать посылом его учения. Ведь кто такой аверроист? Лукавый безбожник, насмешливый рационалист, богохульствующий под видом благоверия. Но нет, этим двойничество не ограничивалось: оно проявлялось в теоретических элементах его системы, и прежде всего в эмпирическом ядре его психологии — тезисе о „двух субъектах“ (duo subiecta) мысли».
Таяма Катай. Тридцать лет в Токио. СПб.: Гиперион, 2025. Перевод с японского, предисловие и комментарии М. В. Торопыгиной. Содержание, фрагмент
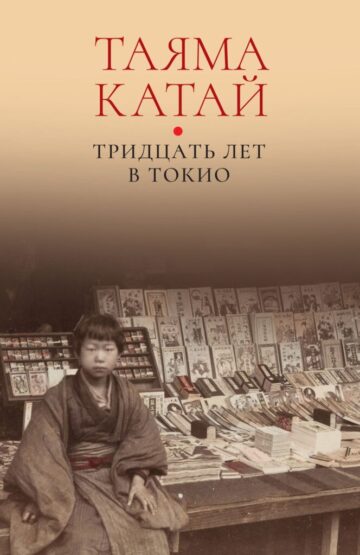
Важная книга для тех, кто интересуется истоками «новой японской литературы» — уже открытой Западу, но еще не перекореженной ужасами Второй мировой. Катай считается столпом японского натурализма: его мемуары — это история о том, как мальчишка-посыльный из книжной лавки, таскавший тяжелые тома по грязным улицам, шаг за шагом пробивался на олимп токийской словесности.
С одной стороны, это уникальный литературно-городской документ эпох Мэйдзи и Тайсё, т. е. конца XIX — начала XX века. Автор скрупулезно описывает редакционные кулуары, привычки коллег и писательские посиделки, фиксирует топонимы, улицы, которые изменились и исчезли (не в последнюю очередь это этнография ушедшего Токио). С другой — перед нами исповедь писателя, раздираемого сомнениями. Катай завидует успехам друзей, ревнует их к славе, мучается неудачами.
Объединяют же повествование темы мимолетности, изменчивости и текучести, о которых писатель рефлексирует под явным влиянием французских коллег (ничуть не менее остро переживавших крах традиционных структур), не теряя при этом регионального колорита и поэтики.
«Храм, куда мы приезжали вместе с Куникидой Доппо, был почти смыт наводнением, там, где со стороны гор стояли ворота, теперь пролегла большая широкая дорога и был виден бодро бегущий поезд. Время от времени прогуливаясь по округе, я замечал следы старого пруда, обломки разрушенных каменных ступеней, старое русло красивого чистого ручья. От прежнего не осталось ничего. <... > Между тем временем и этим пролегли такие перемены и трансформации, которых я даже не мог вообразить. Наполовину было виновато „время“, наполовину — я сам. Раньше у меня были надежды, было будущее, была загадка, я опрометью двигался вперед и вперед, как запряженная в повозку лошадь с шорами на глазах, полагая, что, если просто движешься, этого достаточно, но теперь я совершенно отделался от этих шор. Я стал сомневаться и колебаться. События и сцены моей прошлой жизни походили на здешние обломки каменных ступеней, разбросанные камни, погребенные под густой травой пруд и ручей.
Я не мог не думать о том, что день за днем мы сооружаем себе могилу».
Джеймс Линкольн Коллиер. Джаз. Лейтмотив Америки. М.; Екб.: Кабинетный ученый, 2025. Перевод с английского Максима Леоновича. Содержание
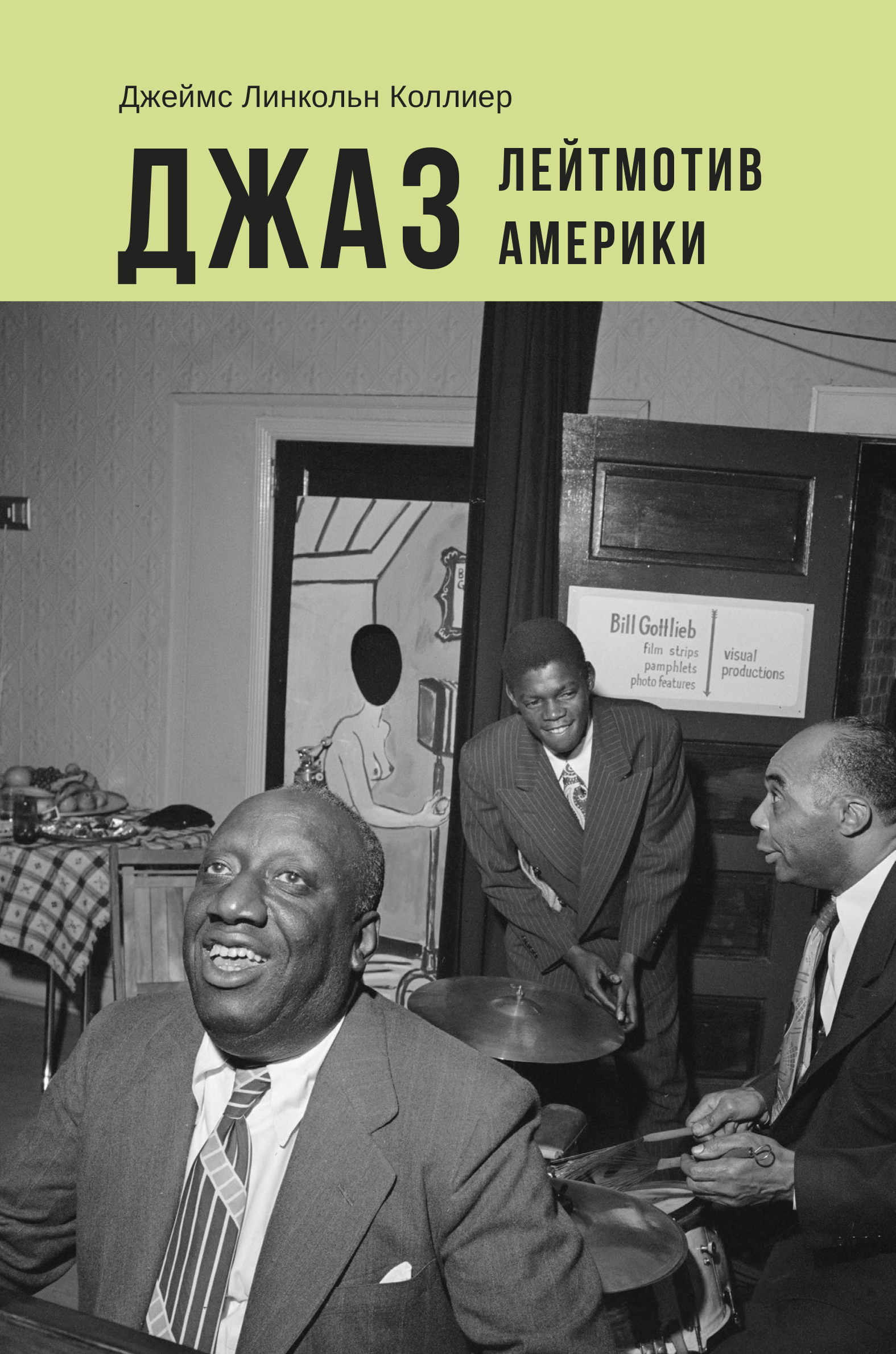
Отечественные ценители джаза прекрасно знают, кто такой Джеймс Линкольн Коллиер: пусть и в усеченном виде, но его книгу «Становление джаза» у нас издавали еще в андроповские времена. Но на всякий случай все же напомним: Коллиер — музыкальный теоретик, критик, историк джаза, автор биографий Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Бенни Гудмена.
«Лейтмотив Америки» — скорее не целостная книга, а сборник из десяти статей на околоджазовые темы. Коллиер рассуждает о том, почему джаз зародился именно в Америке, почему он не мог зародиться нигде, кроме Америки, как из локальной музыки Нового Орлеана он превратился в огромный сегмент глобальной индустрии звукозаписи и шоу-бизнеса, как менялось его восприятие среди рядовых слушателей и критиков.
По поводу последних (то есть своих коллег) Коллиер разражается гневной тирадой: дескать, в 1930-е годы обозреватели хорошо знали музыкальную теорию, но почти не слушали джаз, а теперь много слушают джаз, но совершенно не знают музыкальную теорию, и вместо профессионального анализа просто делятся своим мнением. А еще на протяжении всей книги он довольно потешно доказывает, что белые тоже могут играть и слушать джаз — видимо, какая-то личная травма.
«Критик-марксист Фрэнк Кофски говорил, что джаз „это прежде всего черное искусство — искусство, созданное и взращенное чернокожими людьми в этой стране на основе их богатого исторического опыта“. Другие критики, такие как Нэт Хентофф и Мартин Уильямс, также разделяли мнение о том, что джаз по сути черная музыка, хотя белые тоже могут ее играть. Уильямс, стараясь приписать чернокожим побольше заслуг, утверждал даже, что они изобрели американский популярный танец и американский сленг. Эта мысль должна была удивить многих евреев, ирландцев и итальянцев».
Марко Мальвальди. Из тьмы к звездам. Невероятная история о том, как Галилей доказал вращение Земли, общался с папой римским и раскрыл убийство. М.: КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2025. Перевод с итальянского Наталии Колесовой. Содержание
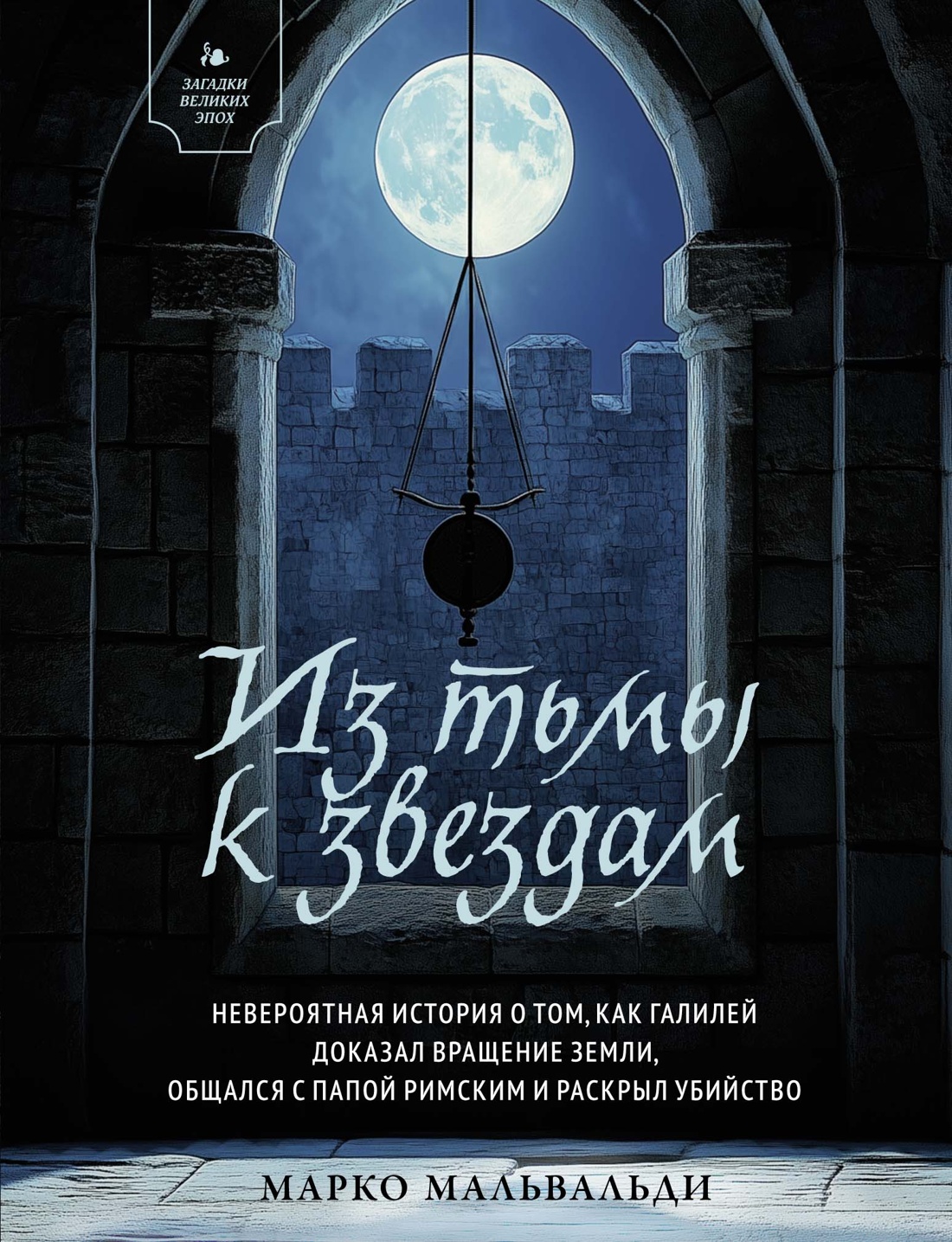
Фигура Галилео Галилея неслучайно и по сей день привлекает к себе внимание: один из первых и самых выдающихся ученых раннего Нового времени; человек, сумевший совершить революцию в астрономии и попутно обосновать, что истина дается нам не только и даже не столько в божественном Откровении, сколько в опыте, основанном на непосредственных наблюдениях и математически выверенных суждениях. Неудивительно, что против такого ученого ополчился Святой престол: спор, по большому счету, шел не о том, Солнце вращается вокруг Земли или, наоборот, Земля вокруг Солнца (Бог в Его неизреченном могуществе запросто мог устроить хоть так, хоть эдак), а о том, кто — церковь с ее теологической доктриной или ученый с его рациональным мышлением и экспериментальным методом — отныне обладает монополией на истинное знание.
Марко Мальвади, итальянский популяризатор истории науки, обратился к краткому периоду из жизни Галилея в начале XVII века, чтобы по-возможности точно реконструировать события, разговоры и мысли отдельных людей, живших в то время. Его сочинение под названием «Из тьмы к звездам», которое русские издатели справедливо отнесли к жанру «документальный fiction», целиком и полностью наследует манере Умберто Эко, автора «Имени розы»: повествование тут, правда, не настолько нагружено скрытыми цитатами из аутентичных исторических источников и ведется не от первого, а от третьего лица, но этот невидимый рассказчик с легкостью подслушивает любые беседы, знает настроения и переживания всех персонажей своей истории и рассказывает ее увлекательно, не без детективной составляющей, но одновременно не забывая подсказывать читателю, чем образ жизни и мышления людей той эпохи отличался от нашего. А чтобы читатель не запутался в многочисленных персонажах с их сложными семейными, духовными и профессиональными отношениями, Мальвади прибег к приему, заимствованному, скорее всего, из исторической трилогии Хилари Мантел: в начале книги дан исчерпывающий список всех участников этой истории, разбитый на отдельные локусы («На вилле Джойелло», «В монастыре святого Матфея» и т. д.) и снабженный краткими характеристиками («Одним словом, человек незаурядный, хотя часто носит грязный кожаный фартук, а речь его пересыпана насмешками и далеко не изящна»).
В общем, приятное чтение для всех тех, кто любит погружаться в тайны интеллектуальной истории человечества, наивно полагая при этом, что, закрыв книгу, они в полной мере приобщатся к их разгадкам.
«Галилео развел руки в стороны ладонями вверх. И свел их вместе.
— Число — это наша общая основа, язык, который Бог дал нам, чтобы мы поняли его творение и нашли общий язык. Если мы сумеем взять все наши меры, все наши понятия и выразить их числами, Никколó, Вавилона больше не случится. И для нас с тобой, и для вавилонян, и для протестантов пять всегда будет больше трех. Математика — это не реальность. Но это самый лучший язык, которым можно пользоваться, чтобы о ней рассуждать.
Каноник положил руку на плечо бывшего учителя.
— Я завидую тебе, Галилео. Как хотелось бы иметь больше времени, чтобы беседовать о философии».
Бён-Чхоль Хан. Инфократия. Истина и свобода в цифровую эпоху. М.: Лед, 2025. Перевод с немецкого Станислава Мухамеджанова. Содержание, фрагмент
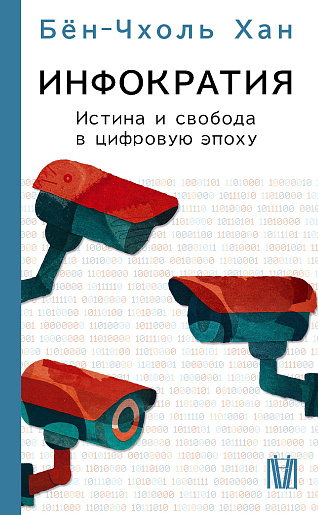
На первый взгляд, справедливо утверждение: есть размышления о том, что трава раньше была зеленее, а есть книги Бён-Чхоль Хана. Однако все несколько хитрее.
Да — в «Инфократии» немецкий философ корейского происхождения, чья продуктивность напрямую коррелирует с простотой выбранного метода, продолжает бичевать пороки современности, вскормленные технопрогрессом. Конечно, выбирая беспроигрышные в своей самоочевидности темы (кризис психотерапии, экономика внимания), автор всякий раз проливает («обрушивает» — слишком темпераментный глагол для этого случая) на них не слишком мощный поток пророческой горечи. Так, на этот раз предметом ламентаций стали «трансформации демократии в условиях цифровой эпохи, где информация, а не идеология или экономика становится главным инструментом власти». Как нетрудно догататься, Бён-Чхоль Хан сожалеет о том, что место диалога и дискуссий заняли вспышки негодования внутри информационных пузырей, а политику вытеснили лайки и репосты.
Однако интересное заключается не в том, что чтение морали вместо анализа нисколько не приближает к пониманию исследуемых феноменов, а в том, что подобная авторская политика является производной и — отчасти — условием возможности этих самых феноменов.
Вот как об этом проницательно, но завуалированно пишет сам философ:
«Информационный капитализм присваивает неолиберальные техники власти. В противоположность техникам власти дисциплинарного режима они работают не через принуждение и запрет, а через положительное стимулирование. Они эксплуатируют свободу, а не подавляют ее. Они руководят нашей волей на бессознательном уровне, а не пытаются ее насильственно сломить. Репрессивная власть дисциплины уступает умной власти, которая не приказывает, а нашептывает, не раздает команды, а подталкивает, то есть тонкими средствами стимулирует поведенческий контроль. Надзор и наказание, по которым можно узнать фукольдианский дисциплинарный режим, уступают место мотивированию и оптимизации. При либеральном информационном режиме господство выдает себя за свободу, коммуникацию и сообщество».
Таким образом, разумно предположить, что Бён-Чхоль Хан является прямым выгодополучателем пресловутого информационного капитализма, и именно в этом свете следует читать его манифесты.