Смартфон — новый медиум подчинения
Из «Инфократии» Бён-Чхоль Хана
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Бён-Чхоль Хан. Инфократия. Истина и свобода в цифровую эпоху. М.: Лед, 2025. Перевод с немецкого Станислава Мухамеджанова. Содержание
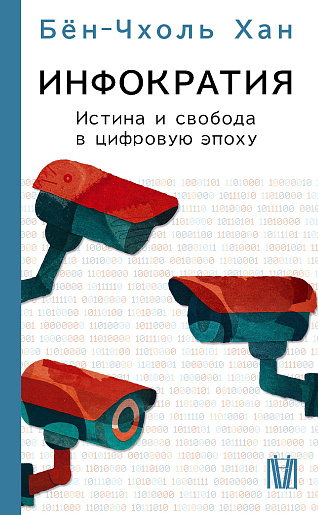
Цифровизация жизненного мира непрерывно продвигается вперед. Она радикально меняет наше восприятие, наше отношение к миру, нашу совместную жизнь. Мы охвачены упоением коммуникации и информации. Информационное цунами высвобождает разрушительные силы. Оно затрагивает и политическую сферу, приводя к массивным перекосам и нарушениям демократического процесса. Демократия вырождается в инфократию.
Во времена зарождения демократии определяющими медиа были книги. Вместе с книгой возникает рациональный дискурс Просвещения. Публичность дискурса, существенно важная для демократии, возможна благодаря рассуждающей и читающей публике. В «Структурном изменении публичной сферы» Хабермас указывает на тесную связь книги и демократической открытости:
Читающую публику, выходящую за пределы «республики ученых», составляют прежде всего граждане-горожане и представители среднего сословия <...>. Вместе с ней — как бы из центра приватной сферы — возникает сравнительно плотная сеть публичной коммуникации.
Без книгопечатания не было бы и Просвещения, которое опирается на разум и рассуждение. В книжной культуре дискурс обнаруживает логическую когерентность:
В культуре, где определяющую роль сыграло книгопечатание, публичная речь, как правило, отличается когерентным и упорядоченным соподчинением фактов и мыслей.
Отмеченный влиянием книжной культуры политический дискурс XIX столетия имел совершенно иную продолжительность и сложность. Знаменитые публичные дебаты между республиканцем Авраамом Линкольном и демократом Стивеном А. Дугласом служат тому ярким примером. В словесной дуэли 1854 года сначала говорил Дуглас, и речь его продолжалась три часа. Линкольну на возражения было предоставлено тоже три часа. После ответа Линкольна Дуглас говорил еще час. Оба оратора обсуждали сложные политические ситуации, иногда употребляя весьма непростые формулировки. Кроме того, их аудиторию отличала необычайная способность к концентрации внимания. К этому следует добавить и то, что публичные выступления в то время были неотъемлемой частью социальной жизни. Электронные массмедиа разрушают рациональный дискурс, сложившийся под влиянием книжной культуры. На первый план они выводят медиакратию. У нее своя архитектоника. По причине ее амфитеатральной структуры получатели обречены на пассивность. Хабермас возлагает ответственность за упадок демократической открытости на массмедиа. С его точки зрения, телезрителям, в отличие от читающей публики, грозит недееспособность:
Вещательные программы новых массмедиа <...> своеобразно урезают реакцию реципиента. Полностью завладевая вниманием слушателей и зрителей, они одновременно ликвидируют ту дистанцию «совершеннолетия», благодаря которой публика получала шанс, то есть возможность, высказываться и возражать. Новая тенденция такова, что резонерство читающей публики уступает место «обмену вкусами и склонностями» между потребителями <...>. Мир, порожденный СМИ, только кажется публичной сферой.
При медиакратии политика тоже подчинена логике массмедиа. Развлечение оказывает определяющее влияние на передачу политического содержания и подрывает рациональность. В работе «Мы развлекаемся до смерти» американский теоретик медиа Нил Постман показывает, что инфотейнмент вредит человеческой способности суждения и ввергает демократию в кризис. Демократия становится телекратией. Развлечение — высший закон, которому подчиняется и политика:
Вместо усилий, требуемых для познания и восприятия, — рассеянность. Вследствие этого человеческая способность суждения быстро приходит в упадок. В этом таится несомненная угроза: человек становится незрелым, застревает в состоянии незрелости. Но этот упадок затрагивает и общественный фундамент демократии. Мы развлекаемся до смерти.
Новости уподобляются рассказам. Различие между вымыслом и реальностью исчезает. Уже Хабермас обращает внимание, как разрушительно инфотейнмент действует на дискурс: «Новости, репортажи и даже редакционные комментарии оформляются с использованием инвентаря развлекательной литературы».
Медиакратия в то же время выступает театрократией. Политика исчерпывает себя массмедийными инсценировками. Своего апогея медиакратия достигает в тот момент, когда актер Рональд Рейган становится президентом США. Телевизионные дебаты между соперниками основаны не на аргументах, а на игре. Радикально сокращается и время, отводимое на речь кандидатов в президенты. Меняется стиль речи. Побеждает тот, кто лучше смотрится на сцене. Дискурс вырождается в шоу и рекламу. Политическое содержание играет все меньшую роль. Тем самым политика лишается всякой субстанции и выхолащивается до телекратической имидж-политики.
Телевидение фрагментирует дискурс. Даже печатные СМИ ориентируются на телевидение:
В эпоху телевидения короткое сообщение становится главным новостным форматом и для печатных средств массовой информации. <...> Не придется долго ждать момента, когда начнут давать призы за лучшую односложную новостную формулировку.
Радио, которое как раз рассчитано на передачу рациональной и сложноорганизованной речи, тоже оказалось вовлечено в этот процесс распада. Его язык также становится фрагментарным и прерывистым. К тому же радио оказалось взято в оборот музыкальной индустрией. С тех пор речь на радио направлена на то, чтобы «вызывать висцеральные реакции». Она превращается в языковой метроном для рок-музыки.
История господства может быть описана как господство различных экранов [Bildschirme]. В мифе о пещере Платон изображает архаический вариант экрана. Пещера построена как театр. Фокусники показывают «представление», пронося за спинами узников предметы и фигуры, тени от которых проецируются на стену пещеры. Узники, с самого детства прикованные за шею и ноги, видят лишь тени и принимают их за действительность. Архаический экран Платона иллюстрирует господство мифов.
В надзорном тоталитарном государстве Оруэлла роль главного экрана выполняет телекран. На нем постоянно показываются пропагандистские передачи. Перед ним массы выполняют ритуалы подчинения в состоянии коллективного возбуждения. В частном жилище телекран выполняет функции камеры наблюдения с очень чувствительным микрофоном. Он регистрирует малейшие шумы. Люди живут с мыслью, что за ними ведется перманентное наблюдение со стороны полиции мыслей. Выключать телекран нельзя. Помимо прочего, он выполняет функцию биополитического дисциплинарного аппарата. Каждый день он проводит утреннюю гимнастику, которая служит производству послушных тел.
При телекратии на смену надзорному экрану Большого Брата приходит телевизионный экран. За людьми не следят — их развлекают. Их не подавляют, а делают зависимыми. Полиция мыслей и Министерство правды больше не нужны. Не боль и пытка, но развлечение и удовольствие становятся инструментами господства:
В романе «1984», прибавляет Хаксли, людей контролируют, причиняя боль. В «Дивном новом мире» их контролируют, доставляя наслаждение. Словом, Оруэлл опасался, что мы погибнем от того, что ненавидим. Хаксли опасался, что мы погибнем от того, что любим.
«Дивный новый мир» Хаксли во многих отношениях ближе нашему настоящему, чем надзорное государство Оруэлла. Он представляет паллиативное общество. В нем боль предосудительна. Интенсивные переживания подавляются. Всякое желание, каждая потребность моментально удовлетворяются. Люди одурманены развлечениями, потреблением и довольством. Жизнью правит принудительное счастье. Государство распространяет наркотик под названием «сома», который усиливает у населения чувство удовлетворенности. В «Дивном новом мире» Хаксли вместо телекрана — «ощущальные фильмы». Это всетелесное воздействие с помощью «цветозапахового орга́на» одурманивает человека. Наряду с наркотиком они применяются как инструмент господства.
Сегодня на смену телеэкрану и фокусировочному экрану приходит тачскрин. Смартфон — новый медиум подчинения. При информационном режиме люди перестают быть пассивными зрителями, которых развлекают. Все они активные передатчики. Они постоянно производят и потребляют информацию. Опьянение коммуникацией, которое теперь принимает одержимые, навязчивые формы, крепко удерживает их в состоянии новой незрелости. Формула подчинения при информационном режиме гласит: мы коммуницируем до смерти.
Хабермас писал «Структурное изменение публичной сферы» (1962) во времена, когда были известны лишь электронные массмедиа. Сегодня цифровые медиа подвергают публичную сферу радикальному структурному преобразованию. Поэтому «Структурное изменение публичной сферы» Хабермаса нуждается в глубокой ревизии. В эпоху цифровых медиа публичной сфере дискурса угрожает не только развлекательный формат массмедиа, не только инфотейнмент, но прежде всего виральное распространение и умножение информации, а именно инфодемия. Цифровым медиа присущи центробежные силы, которые ведут к фрагментации публичной сферы. Амфитеатральная структура массмедиа уступает ризоматической структуре цифровых медиа, у которой нет никакого центра. Публичная сфера распадается до приватных пространств. Из-за этого наше внимание отвлекается от значимых общественных тем.
Нужна феноменология информации, чтобы углубить понимание инфократии и того кризиса, в который погрузилась демократия при информационном режиме. Проявления этого кризиса заметны уже на когнитивном уровне. Информация охватывает лишь незначительный отрезок настоящего. Ей не хватает временно́й стабильности, поскольку она существует благодаря «возбуждению от удивления». По причине своей временно́й нестабильности она фрагментирует восприятие. Она разрывает действительность, превращая ее в «нескончаемый угар настоящего». Нет возможности задержаться на какой-нибудь информации. Из-за этого когнитивная система пребывает в напряжении. Принудительный разгон, внутренне присущий информации, вытесняет времязатратные когнитивные практики знания, исследования и познания.
Охватывая лишь незначительный промежуток времени, информация атомизирует время. Время распадается, превращаясь в простую последовательность точек настоящего. Этим информация отличается от нарратива, порождающего темпоральную длительность. Сегодня время на всех своих уровнях распадается на части. Несущая темпоральная архитектура, которая стабилизирует восприятие, сегодня все больше разрушается. Общая краткосрочность информационного общества вредит демократии. Дискурсу присуща такая темпоральность, которая не терпит ускоренной, фрагментированной коммуникации. Он представляет собой практику, затратную с точки зрения времени.
Времязатратность свойственна и рациональности. Рациональные решения долгосрочны. Им предшествует размышление, которое выходит за рамки настоящего момента, устремляясь в прошлое и будущее. Это расширение во времени служит отличительным признаком рациональности. При информационном режиме у нас попросту нет времени на рациональное действие. Принудительность ускоряющейся коммуникации лишает нас рациональности. В условиях нехватки времени мы опираемся на интеллект. Интеллектуальное действие начинает ориентироваться на краткосрочные решения и быстрые результаты. Луман справедливо замечает: «В информационном обществе речь уже идет не о рациональном, а об интеллектуальном поведении».
Кроме того, сегодня дискурсивной рациональности угрожает аффективная коммуникация. Мы находимся под воздействием слишком быстро сменяющейся информации, которая нас аффектирует. Аффекты быстрее рациональности. В аффективной коммуникации верх одерживают не более убедительные аргументы, а информация с бо́льшим потенциалом возбуждения. Поэтому fake news обращают на себя больше внимания, нежели факты. Один-единственный твит, содержащий фейковую новость или вырванный из контекста фрагмент информации, может оказаться действеннее, нежели подкрепленный аргумент.
Трамп — первый твиттер-президент — раздробил свою политику на твиты. Для нее определяющим выступает не визионерство, а виральность информации. Инфократия требует успешного, инструментального действия. Оппортунизм набирает обороты. Американский математик Кэти О’Нил справедливо указывает, что Трамп и сам действует как совершенно оппортунистический алгоритм, ориентированный исключительно на реакцию публики. Не меняющиеся во времени убеждения и принципы приносятся в жертву краткосрочным эффектам власти.
Психометрия, которую еще называют психографией, — это построение профиля личности, основанное на анализе данных. Психометрическое профилирование позволяет предсказывать поведение личности лучше, чем это могут сделать люди из ее близкого круга. При достаточном объеме данных можно сгенерировать информацию даже о том, что выходит за рамки того, что мы, как нам кажется, знаем о самих себе. Смартфон — это аппарат психометрической записи, который мы снабжаем данными ежедневно, даже ежечасно. Личность его владельца может быть точно обсчитана. В своей биополитике дисциплинарный режим опирался только на демографическую информацию. Напротив, информационный режим опирается на психографическую информацию, что открывает ему доступ к психополитике.
Психометрия — идеальный инструмент психополитического политмаркетинга. Так называемый микротаргетинг использует психометрическое профилирование. Исходя из психограммы избирателя, социальные сети предлагают ему персонализированную рекламу. Влияние на поведение избирателя и потребителя производится на бессознательном уровне. Инфократия, основанная на анализе данных, подрывает демократический процесс, для которого требуется автономия и свобода воли. Британская компания, специализирующаяся на анализе данных, Cambridge Analytica хвалилась тем, что располагала психограммами всех взрослых жителей США. После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года компания триумфально объявила:
Мы испытываем неподдельный восторг от того, что наш революционный подход к коммуникации на основе анализа данных сыграл столь важную роль в невероятной победе ныне избранного президента Дональда Трампа.
Микротаргетинг нацелен не на то, чтобы задать избирателю вопросы о политической программе той или иной партии. Напротив, человеку в манипулятивных целях показывают предвыборную рекламу, адаптированную к его психограмме. Десятки тысяч вариантов предвыборной рекламы проверяются на предмет эффективности. Психометрически оптимизированные dark ads — угроза для демократии. Каждый получает свою новость, так что публичная сфера фрагментируется. Разные целевые аудитории получают разную информацию, которая нередко оказывается противоречивой. Граждане становятся нечувствительными к общественно значимым темам. Их лишают дееспособности и превращают в голосующий скот, который должен обеспечить политикам власть. Dark ads вносят свой вклад в раскол и поляризацию общества, отравляют дискурсивную атмосферу. Кроме того, они остаются невидимыми для публичной сферы. Тем самым они расшатывают основополагающий принцип демократии: самонаблюдение общества.
Сегодня каждый, у кого есть доступ в интернет, может настраивать каналы поступления информации. Цифровые информационные технологии позволяют свести издержки производства информации практически к нулю. Всего несколько легких движений руки — и можно быстро и безо всяких затрат настроить аккаунт в Twitter или канал в YouTube. В эпоху массмедиа, напротив, производственные издержки информации гораздо выше. И организация новостного канала — очень затратное дело. В обществе массмедиа поэтому не существует инфраструктуры массового производства fake news. Можно согласиться, что телевидение было миром иллюзий, однако оно не было фабрикой фейковых новостей. Медиакратия, как и телекратия, основана на шоу и на развлечении, но не на фальшивых новостях и дезинформации. Лишь цифровые сети создают структурные предусловия для инфократических сбоев демократии.