Урок свиньям
О научном пути и книгах Мишеля Пастуро
Подобно тому, как в 1990–2000-е годы историческая мысль Франции становилась доступна отечественному читателю благодаря переводам сочинений Жака Ле Гоффа, сегодня с научными достижениями современных французских медиевистов нас знакомят вышедшие по-русски книги Мишеля Пастуро. Его работы, посвященные геральдике, а также символическим значениям различных цветов и животных, дают возможность взглянуть на мир глазами средневековых французов — а значит, расширить горизонты нашего собственного восприятия. О книгах Пастуро и сфере его научных интересов специально для читателей «Горького» рассказывает Григорий Бакус.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
В 1386 году на ярмарочной площади в Фалезе (Нормандия) состоялась необычная казнь — к специально оборудованной виселице лошадью приволокли свинью, одетую в человеческое платье. Палач обезобразил животное, после чего водрузил на него маску в виде человеческого лица и подвесил за задние лапы. Казнь состоялась при большом стечении народа и в присутствии виконта Реньо Риго. Именно ему, королевскому бальи (чиновнику, выполнявшему административные и судебные функции), пришло в голову собрать по такому случаю крестьян не только с семьями, но и со своими свиньями, которым мрачная сцена наказания должна была стать уроком. Кроме того, виконт Фалеза отдал распоряжение сделать в церкви Святой Троицы большое настенное панно в память об этом событии. Оригинальное изображение погибло в 1417 году — при осаде города англичанами в ходе Столетней войны, однако позднее было восстановлено и просуществовало вплоть до 1820 году, когда церковь побелили. История фалезской свиньи является одним из самых известных и хорошо документированных случаев в череде судебных процессов над животными. Всего же, по оценкам историка, во Французском королевстве с 1266 по 1586 год имело место около 60 подобных случаев, закончившихся казнью обвиняемых. Кроме того, в альпийском регионе, преимущественно на территории современной Швейцарии, в XV веке практически одновременно с первыми большими процессами против ведьм начинается череда дел против «вредителей» — насекомых и червей.
Долгое время процессы против животных воспринимались как исторические анекдоты, которыми интересовались прежде всего те авторы, что искали развлекательный материал для своих читателей. Как исследователь символических систем Мишель Пастуро обратился к этим сюжетам для того, чтобы поместить парадоксальное событие в его исторический и культурный контекст. Эта установка позволила историку сделать вывод о том, что процессы над животными, проводившиеся с XIII века, представляли собой для современников идеальные примеры «справедливого правосудия», основанного на инквизиционном процессе и неукоснительном соблюдении всех его ритуалов. Все это действо представляло собой ритуализированное высказывание: воздаяния не избегнет никто — и даже животное.
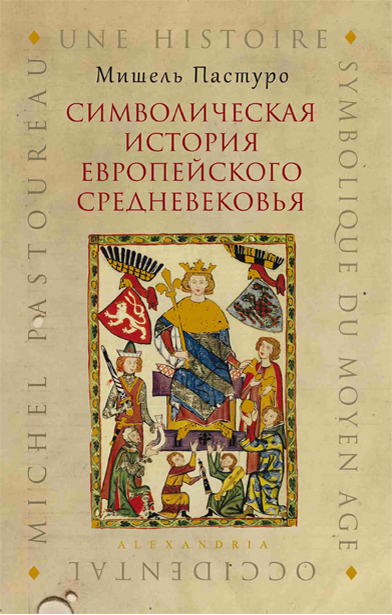
В «Символической истории европейского Средневековья» Мишель Пастуро описывает свой главный аналитический прием так: в средневековой символике ничто не функционирует вне контекста — животное, растение, число, цвет приобретают значение постольку, поскольку они связаны с другим или другими животными, растениями, числами, цветами или противопоставлены им. В своей работе историку необходимо отказаться от излишних обобщений и попыток найти общий для всех источников смысл ради того, чтобы выявлять присущие именно этому источнику системы и способы означивания различных символических элементов. Последовательная реализация этого подхода оказалась необыкновенно продуктивной и дала возможность обратиться к таким проблемам, как функционирование геральдики в средневековом обществе, культурная история цвета и символическое значение животных в истории европейской культуре. Кроме того, есть еще одна важная особенность — работы Мишеля Пастуро о средневековой символике представляют собой опыт сокращения пространства для мистификации, появляющейся в тот момент, когда историк привносит в свое исследование нечто, отсутствующее в корпусе источников.
Геральдика: недоизученный объект истории
Появление гербов — это социальное явление огромной важности, которое показывает, как могут быть связаны между собой изменение материальной культуры, социальной организации и символической сферы. Первое из них коснулось военного снаряжения — появления кольчужного капюшона, закрывающего подбородок, и шлемов с наносниками (а позднее — полностью закрывающих лицо), которое сделало воинов неузнаваемыми на поле боя. Одновременно с этим частью защитной экипировки стал большой треугольный щит, представлявший собой идеальную основу для нанесения эмблем и отличительных знаков. Появление гербов совпало с формированием новых структур феодального общества, в котором каждый индивид входил в свою социальную группу. В этих условиях геральдика стала одной из систем социальной идентификации — относительно простой, наглядной и дававшей большой простор для вариаций в своих границах. Эта сфера породила собственный язык, использовавший цвета, фигуры и образы животных. И даже щит стал символической фигурой, организующей пространство геральдического изображения, и в таком виде он значительно пережил век рыцарства.
Увидеть цвета Средневековья и других эпох
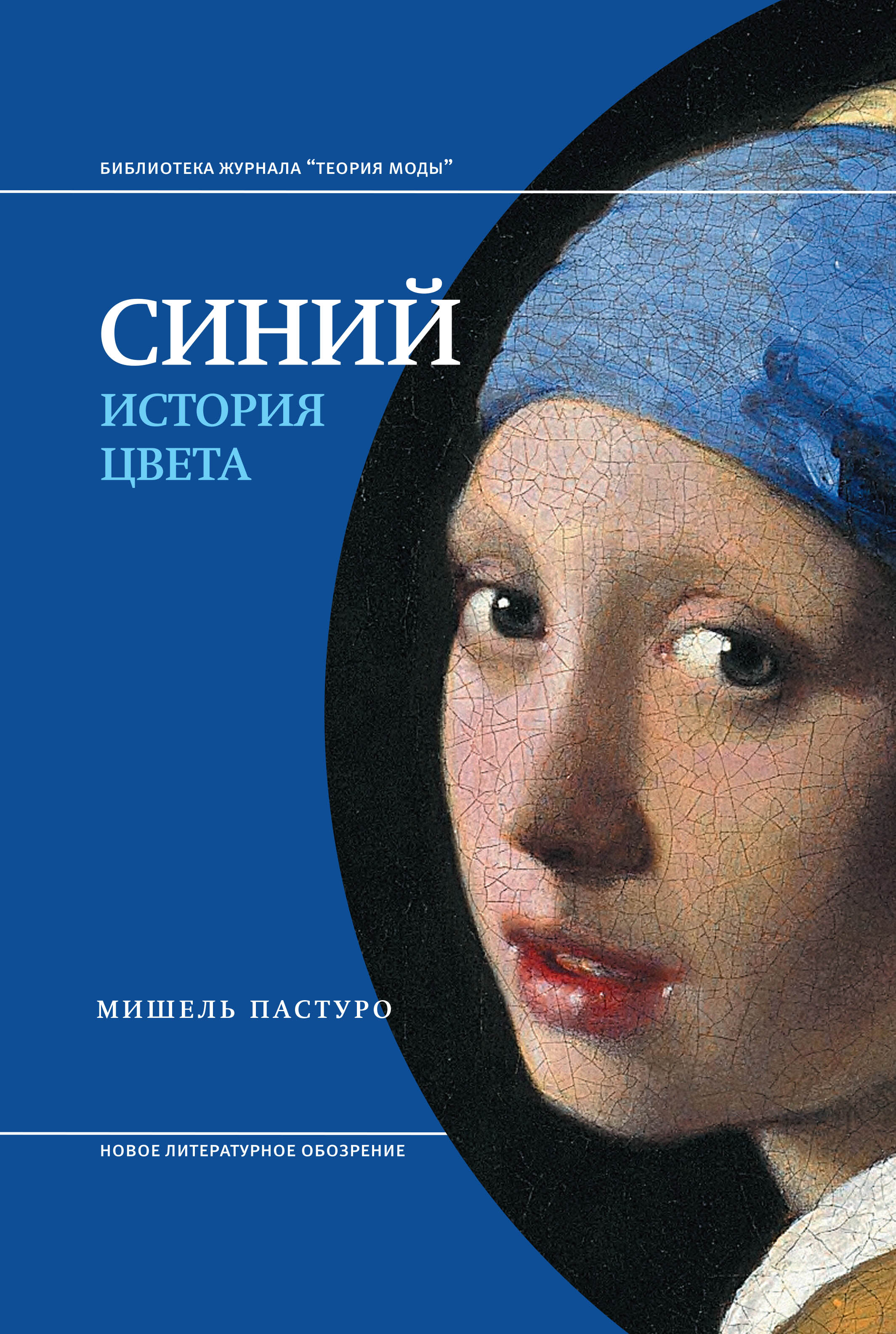
«Цвет — не только физический феномен и феномен восприятия; это еще и сложный культурный конструкт, который не поддается ни обобщениям, ни даже анализу и ставит перед нами множество сложных вопросов» — так Мишель Пастуро описывает свой подход в рамках этой темы. Приведем два из множества сложных вопросов восприятия цвета в историческом контексте. Первый из них заключается в том, что в силу технического прогресса сейчас мы видим изображения, вещи и цвета при освещении, которое совершенно отличается от того, при котором жили люди до изобретения электрической лампочки. Факел, масляная лампа и свечи производят совсем иной свет, нежели электрический ток, и это неизбежно влияет на то, как мы воспринимаем изображения и их палитру. Второй вопрос — «черно-белый регистр», то есть доминирование монохромных изображений (сначала эстампов и гравюр, затем фотографий) памятников культуры, что привнесло специфическое отношение к ушедшим культурам Античности и Средневековья как к миру, в котором отсутствовал цвет. Ответом Пастуро-историка на эту тенденцию стала серия монографий по истории цветов. По охватываемому материалу эта серия исследований выходит за рамки Средневековья, чтобы углубиться в древность и дойти до наших дней. Первая книга — «Синий» (2000) — открывается парадоксом, который заключается в том, что этот цвет, широко представленный в природе, в человеческой палитре красок появляется очень поздно. Серию продолжили книги «Черный» (2008), «Зеленый» (2013), «Красный» (2016), «Желтый» (2019), «Белый» (2022), «Розовый» (2024), а также к ним примыкает более ранняя работа «Дьявольская материя: история полосок и полосатых тканей» (1991). Этому развернутому экскурсу можно подвести итог словами самого Мишеля Пастуро: «Историк должен помнить, что никакой универсальной истины не существует — ни в смысле определений, практик или значений, ни в смысле восприятия. Все это обусловлено культурой, культурой и еще раз культурой».
Культурная история животных
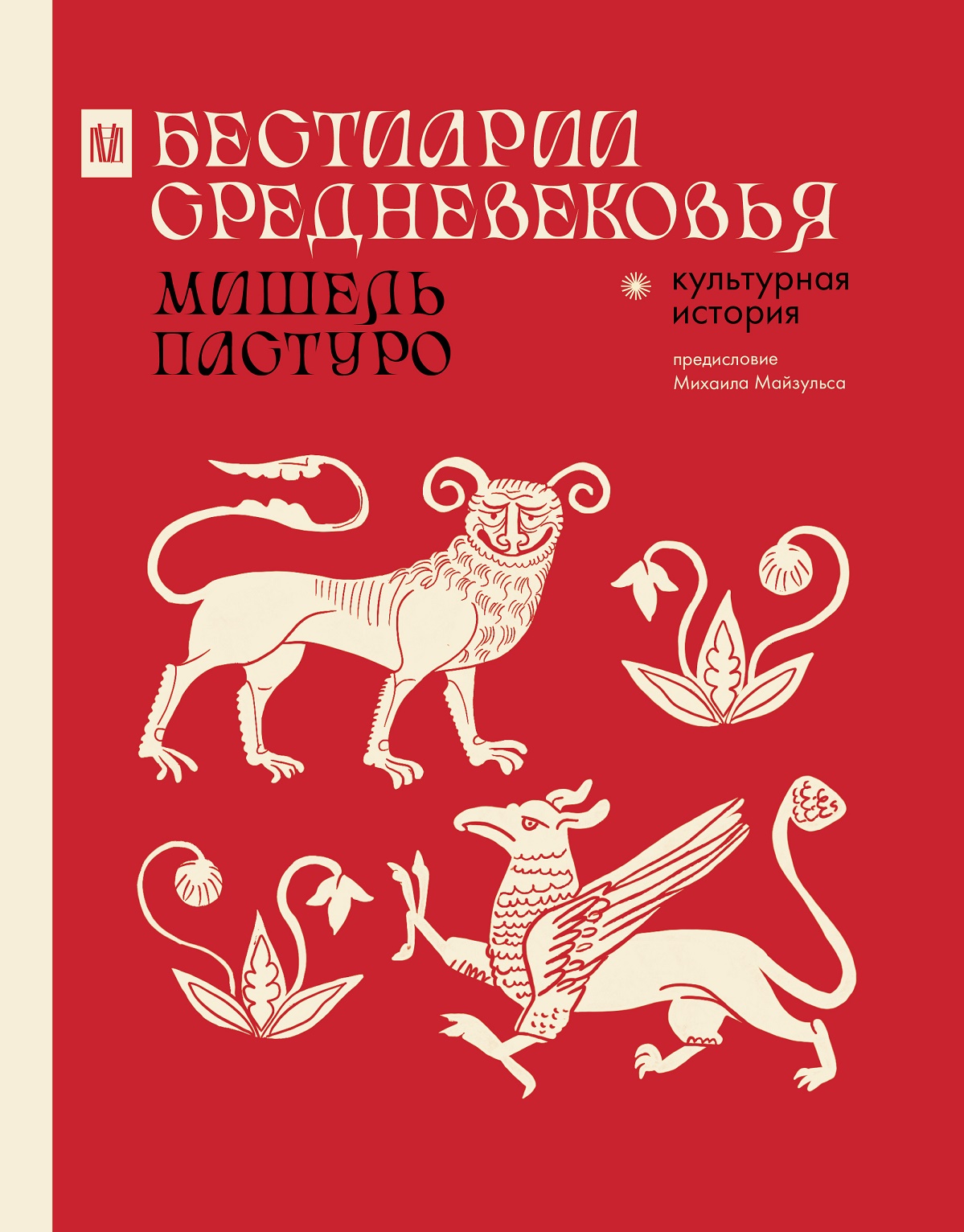
Возможно, это центральная тема для исследователя, которая была задана еще его диссертацией, защищенной в 1972 году по теме «Геральдический бестиарий в Средние века». За ней последовали многочисленные статьи о разных аспектах использования образов животных в Средние века. Кульминацией стала серия работ, посвященных осмыслению образов отдельных животных в культуре: «Медведь. История падшего короля» (2007), «Свинья. История нелюбимого родственника» (2009), «Бестиарии Средневековья» (2011), «Волк» (2018), «Бык» (2020), «Ворон» (2021) и «Кит» (2023). Каждая из книг описывает животных европейского «опорного бестиария» (термин Франсуа Поплена), на основе которого в культуре образуется целая сеть легенд, образов, мифов и символов. Любопытно, что один из центральных сюжетов этой истории Мишель Пастуро описывает метафорами властных отношений в человеческом обществе: свержение медведя и коронование льва. Под этим подразумевается постепенное вытеснение из символической сферы средневековой Европы медведя — животного, занимающего особое место в кельтской, германской и славянской мифологии, — в пользу льва, экзотического зверя, исчезнувшего из местной природы несколькими тысячелетиями ранее. И здесь же мы видим интересное пересечение разных сфер интересов историка — геральдика появляется как раз в тот момент, когда лев стремительно завоевывает иконографию и область воображаемого.
Профессиональный диалог
Продуктивность работы историка во многом определяется наличием дискуссии, в которой ученые высказывают разные точки зрения. Исследователю этот диалог дает возможность уточнить проблематику, а читателю открывает новые горизонты — книги приобретают дополнительную глубину, если их удается поместить в культурный и научный контекст. Именно к этому, как мы помним, и призывал Пастуро в отношении исторических источников, однако это верно также и применительно к работам историков.
Стоит отметить сходство общего подхода Пастуро и некоторых идей, высказанных другим известным французским историком-медиевистом — Жаком Ле Гоффом: «Изучить образы, порожденные воображением общества, означает добраться до глубин сознания этого общества». Даже в деталях проявляется общность интересов двух историков: в «Цивилизации средневекового Запада» Ле Гоффа мы находим рассуждения о значении ярких цветов для культуры этой эпохи и весь его же «Средневековый мир воображаемого» (чудесное, пространство и время, тело, сновидения) по существу представляет собой еще один — близкий — опыт реконструкции символических систем.
Не только историки
Если выйти за пределы узкопрофессиональной дискуссии медиевистов и посмотреть на значение работ Пастуро в контексте гуманитарного знания, то первое, что бросается в глаза, — близость подхода французского историка семиотике, «научной теории системы знаков в истории» (определение Юлии Кристевой). Действительно, сложные символические системы Средневековья представляют собой разновидности семиотических практик. В этом отношении многообразные исследования Мишеля Пастуро перекликаются с работами Умберто Эко. Любопытно, что и сам Эко прямо заявлял о связи семиотики с историей, когда писал в «Роли читателя», что любое исследование семиотических структур произведения является разработкой неких исторических и социологических гипотез — даже если исследователь сам того не осознает или не хочет осознавать. Культурная история того или иного цвета или животного логично вписывается в опыт научного описания знаковых практик, которые современная европейская культура утаивала и вытесняла, а общество, управляемое законами речи и обмена, объявляло иррациональными или опасными, — магии, поэзии, «священных» текстов, ритуалов, религии, обрядовой музыки и живописи (Юлия Кристева). И тут само собой вспоминается наблюдение самого Мишеля Пастуро о том, что современные европейские языки не располагают терминологическим инструментарием, способным с точностью передать разнообразие и тонкости средневековой латинской лексики, определяющей и актуализирующей символ. Эти параллели в подходах позволяют нам сделать одно рискованное, но интересное предположение, которое заключается в том, что «Имя Розы» и «Бестиарии Средневековья» представляют собой опыты моделирования культурных форм ушедшей, но по-прежнему притягательной культуры.
Автор — историк-медиевист, научный сотрудник ИНИОН РАН, автор книги «Инквизиция, ересь и колдовство: „Молот ведьм“» (2023)