Какой цвет самый уродливый?
Из книги Мишеля Пастуро «Розовый. История цвета»
На заре Нового времени красивым стали считаться не только цвета, рожденные природой, но и созданные руками человека. О том, как происходила эта революция чувствительности, читайте в отрывке из исследования медиевиста Мишеля Пастуро о розовом цвете.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Мишель Пастуро. Розовый. История цвета. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Перевод с французского Н. Кулиш. Содержание
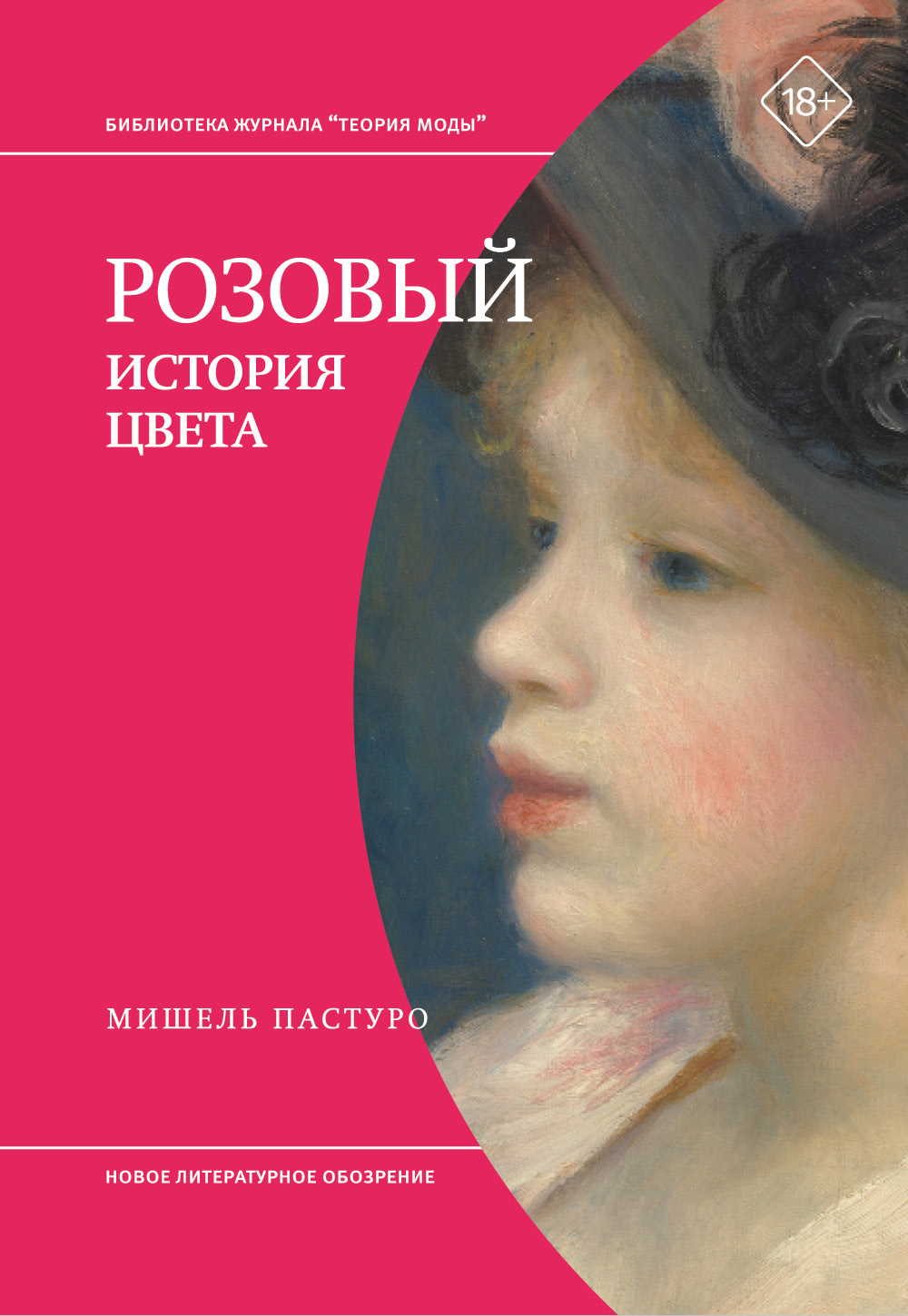
Дидактические тексты, в которых прежде не слишком много говорилось о цвете, на закате Средневековья становятся словоохотливее, и не только в энциклопедиях и трудах по натуральной философии, но также в книгах по медицине, фармакопеях, трактатах по алхимии, наставлениях по литургии, не говоря уже о только что обсуждавшихся нами сборниках рецептов красок для красильщиков и художников. О чем бы ни шла речь — о радуге, растениях, камнях, пигментах, моче, даже о мессе, — всегда находится место для пространных и разнообразных рассуждений о цвете. К этой литературе следует еще добавить нормативные тексты о теле и об одежде: «княжеские зерцала», трактаты о священническом этикете, книги о хороших манерах и светском обхождении, законы против роскоши и предписания об одежде, проповеди и памфлеты моралистов, наблюдения и замечания хронистов.
В литературных текстах также заметно чаще встречаются упоминания о цветах, а некоторые авторы охотно рассуждают об их иерархии и символике. Куртуазная лирика и рыцарские романы XII-XIII веков редко распространялись на эту тему; и только зарождавшаяся геральдика вносила немного цветовой перспективы в пейзаж, в котором свет играл более важную роль, чем цвет. Но на закате Средневековья все меняется. Поэты и авторы романов в прозе не упускают возможность поговорить о цветах, об их красоте, об их значениях; тем самым они прибавляют эстетическое и эмоциональное измерение к техническим пояснениям, содержащимся в научных и нормативных текстах. По этому периоду историк располагает источниками, которые позволяют ему фиксировать предпочтения и неприятия, изучать сочетания, иерархии и соответствия. В феодальную эпоху суждения о красоте или уродстве какого-либо цвета зависели прежде всего от соображений морального или социального порядка. Прекрасное — это почти всегда благопристойное, умеренное, привычное. Конечно, допускалось и чисто эстетическое удовольствие от созерцания, но оно касалось главным образом цветов природы: только они считались истинно прекрасными, чистыми, дозволенными, гармоничными, ибо они были творением Создателя. На заре Нового времени все изменится. Теперь цвета, созданные руками человека, тоже могут быть привлекательными.
Легче всего этот переход от символики к эстетике прослеживается в некоторых геральдических трактатах. Например, в «Книге о гербах и цветах», компилятивном трактате, автором которого считается знаменитый в то время геральдист Жан Куртуа, называемый также «Сицилийским геральдистом» (он действительно был придворным геральдистом у короля Сицилии Рене Анжуйского, а затем у арагонского короля Альфонсо V). Куртуа родился около 1380 года в окрестностях Монса, в провинции Эно, умер в 1437-м или 1438-м. В конце жизни он издал трактат на французском языке, который почти целиком посвящен цвету в геральдике и который сохранился до наших дней в виде двух десятков манускриптов и нескольких печатных изданий.
На самом деле Жану Куртуа принадлежит только первая часть этой книги (в том виде, в каком она дошла до нас). Полвека спустя некий анонимный автор, возможно родом из Лилля или Брюсселя, добавил к ней вторую, более подробную и развернутую часть, где речь идет о ливреях и символике цветов в одежде. В таком виде книга вышла под названием «Геральдика цветов в гербах, ливреях и девизах» и имела большой успех: впервые напечатанная в 1495 году, она была переиздана в 1501-м, а затем выдержала еще шесть изданий вплоть до 1614 года. За это время ее успели перевести на несколько языков (сначала на венетский, потом на тосканский, немецкий, голландский и кастильский).
Это сочинение повлияло на разные области культуры, в частности на литературу и изобразительное искусство. Некоторые поэты и художники буквально следовали указаниям автора и одевали своих персонажей в соответствии с цветовым кодом, предложенным в трактате. Как утверждает второй автор, каждому сословию общества, каждому возрасту и каждой жизненной ситуации соответствуют определенные цвета, поэтому одни сочетания цветов он рекомендует, других советует избегать. В своих рекомендациях он основывается на «нравственной ценности, естественных свойствах и символическом значении» тех или иных цветов. В частности, он считает, что инкарнат (насыщенный розовый) подобает носить влюбленным и что он подходит «придворным и тем, кто владеет пером».
Далее в трактате каждому из одиннадцати цветов, которые автор называет «особенными», посвящена отдельная глава. Инкарнат — восьмой в этом перечне:
Инкарнат — цвет весьма прекрасный и жизнерадостный. Он близок к красному, но отличается от него, ибо тяготеет к белому. Если обратить взгляд на растения, более всего он напоминает цветущую гвоздику и левкой. Этот цвет означает… здоровье, юность, благородство и добрый нрав того, кто его носит. Он свидетельствует, что перед вами — человек, приятный в обхождении и уверенный в себе. Инкарнат подходит также молодым девицам и юношам. В ливреях в сочетании с серым он означает надежду на обогащение; в сочетании с фиолетовым — уменье ладить с великими мира; с темно-коричневым — счастье, а затем несчастье. Инкарнат — цвет, который более создается искусством, нежели природой.
Последнее замечание особенно интересно. Из него следует, что розовый цвет скорее можно увидеть в мастерских художников и красильщиков, чем в лугах, лесах и садах. То есть это цвет, создаваемый не столько природой, сколько человеком.
Последние фразы «Книги о гербах» выглядят как вопросы и ответы из катехизиса: «Какой цвет прекраснее всех? — Красный, потому что инкарнат слишком быстро блекнет. — Какой цвет самый уродливый? — Цвет дубленой кожи».
В том, что самым уродливым здесь назван цвет дубленой кожи, то есть темно-рыжий, нет ничего удивительного. В Средние века и даже на заре Нового времени рыжий цвет воспринимался негативно, литературные тексты и изображения связывают его с лжецами, лицемерами, блудницами, неверными женами и вообще всеми предателями — из Библии, героических поэм и куртуазных романов. У всех у них рыжие волосы на голове или на теле: таков в первую очередь Иуда — неверный апостол, олицетворение предательства.
С другой стороны, утверждение, что инкарнат (розовый) — прекраснейший из цветов (точнее, мог бы им быть, если бы не блекнул слишком быстро), знаменует собой нечто новое. Это утверждение дает понять, что цвет теперь воспринимается не только как код или язык, как в геральдике, но и как объект эстетического восприятия.
На заре Нового времени эту мысль высказывают многие авторы. Первая половина XVI века — период активной публикации трактатов, посвященных красоте, гармонии и символике цветов. Некоторые из этих рукописей дремлют в тишине библиотек, а другие были напечатаны и даже стали, как мы сказали бы сегодня, бестселлерами. Из последних назовем четыре трактата, напечатанных (а позже неоднократно перепечатанных) в Венеции, в которых розовому цвету отводится особое место: Антонио Телезио «Книжечка о цветах» (De coloribus libellus, 1528); Фульвио Пеллегрино Морато «О значении цветов» (Del signifi cato de colori, 1535); Паоло Пино «Диалог о живописи» (Dialogo di pittura, 1548); Лодовико Дольче «Диалог о цветах» (Dialogo dei colori, 1565).
То, что книги, полностью посвященные цвету, были изданы именно в Венеции и авторы их либо были уроженцами города Дожей, либо жили и работали там, — не случайность. С XIV по XVIII век Венеция была общепризнанной европейской столицей цвета. Это крупнейший центр торговли, куда с Востока, порой из самых отдаленных уголков, привозят пигменты и красители, которые затем расходятся по всей Западной Европе.
А еще это центр художественной жизни, где работает много живописцев, в том числе знаменитых, таких как братья Джованни и Джентиле Беллини, Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Веронезе. В спорах о том, что важнее в живописи, рисунок или колорит, венецианцы всегда отдают первенство последнему.
А еще Венеция — город искусных ремесленников, и видное место среди них занимают красильщики: ни в одном европейском городе нет такого количества красилен, строго специализированных по типу тканей и красящих веществ. Работа этих мастерских строго разделяется, регламентируется и контролируется.
Наконец, именно в Венеции в 1540 году было напечатано первое руководство по красильному делу — знаменитое «Plictho» («Наставление [по красильному искусству]») Джованвентуры Розетти, которое переиздавалось с тех пор много раз, вплоть до конца XVIII века.
Кстати, в Венеции с 1465 года бурно развивается книгопечатание. Здесь ежегодно выходит множество книг по всем областям словесности и науки; и во многих из них — будь то пособия по красильному делу, трактаты о живописи, сочинения об одежде, труды по эстетике или символике — авторы нередко рассуждают о цвете. Так, в 1525 году выходит перевод «Книги о гербах» на венецианский диалект, в 1535-м — перевод на итальянский; обе книги до конца XVI века выдержат еще несколько переизданий.
Из четырех названных выше книг о цвете наибольший интерес для нас представляет сочинение Фульвио Пеллегрино Морато (1483–1548), гуманиста и друга художников. Конечно, он много позаимствовал у недавно переведенной «Книги о гербах», но по некоторым вопросам его мнение расходится с предписаниями геральдистов и с вестиментарными кодами. В частности, когда он утверждает, что в творчестве художника «глаз важнее рассудка» и что красота колорита главенствует не только над совершенством линии, но и над теми благодетельными свойствами и символическими значениями, которые люди приписывают цветам. Для Морато эстетика выше символики — и это, без сомнения, означает полный разрыв со средневековой системой ценностей.
Он рекомендует своим друзьям-живописцам сочетания цветов, предназначенные исключительно для того, чтобы радовать глаз и чувства, а не для того, чтобы угождать разуму и морали. По мнению Морато, самые красивые сочетания — это белое с черным, синее с оранжевым, серое с рыже-желтым (итал. leonato, «львиный»), но лучшее из всех — светло-зеленое с телесным (итал. incarnato), когда этот последний — яркий, сияющий. На его взгляд, среди светлых тонов нет ничего прекраснее, чем зеленый в сочетании с розовым.
Поучителен также небольшой латинский трактат Антонио Телезио (1482–1534), преподавателя риторики и изящной словесности в Венеции в 1527–1529 годах. Телезио тоже находится под влиянием «Книги о гербах», но в своей книге он совсем не говорит о геральдике: его занимает скорее филология, чем символика. Страстный поклонник Вергилия, Овидия и Плиния, он подчеркивает богатство латинской цветовой лексики, анализирует 114 хроматических терминов и замечает, что они представляют трудность для перевода. Телезио также утверждает, что ни на одном языке нельзя точно назвать цвет неба, цвет моря и цвет глаз (как у человека, так и у животных), или, говоря более общо, «всего того, чей цвет представляет собой нечто среднее между синим и зеленым».
В заключительной главе книги он предлагает различные классификации цветов. С точки зрения морали он, как и Плиний в «Естественной истории», разделяет цвета на строгие (colores austeri) и легкомысленные (colores floridi). К первой категории он относит белый, черный и серый, а также «синий и розовый, если они нежные». В эстетическом плане Телезио противопоставляет цвета, которые радуют глаз (colores suaves), цветам, которые ему неприятны, поскольку кажутся грязными (colores sordidi). Среди первых — розовый, который он называет «прекраснейшим из цветов», белый, небесно-голубой и пурпурный (purpureus), причем под пурпурным автор подразумевает не фиолетовый, а темно-красный — так издавна повелось в Венеции. Среди вторых — рыжий, тусклый черный (ater), большинство коричневых тонов и, что совершенно неожиданно, темно-синий.
В диалогах Паоло Пино (1534–1565) и Лодовико Дольче (1508–1568), два истинных венецианца, друживших с художниками, вхожими в мастерскую Тициана, интересуются не столько моралью и геральдикой, сколько символикой и — в еще большей степени — эстетикой. Пино размышляет о трудностях, с которыми сталкиваются художники, пытаясь передать краски природы, не только растительности, но и неба, моря, огня. Он также высказывает мысль о том, что из самых дорогих пигментов не всегда получаются лучшие краски. Секрет красоты — в мастерстве и даровании художника, а не в стоимости материалов.
Со своей стороны, Лодовико Дольче, плодовитый автор, который, по выражению Гёте, «писал во всех жанрах, не преуспев ни в одном», задался целью определить, что такое цвет — вещество, свет, ощущение, слово, — и разъяснить понятие гармонии в цвете. Гармония должна опираться на контрасты, но расположенные по соседству цвета должны быть насыщенными, а не нюансированными. Однако, чтобы быть прекрасными, сами контрасты должны быть умеренными, а не резкими. Идеальная гармония, по мнению Дольче, — это сочетание светло-зеленого, розового и бледно-серого. Вслед за Телезио и Морато он называет розовый самым изысканным и обаятельным из всех цветов, идет ли речь о лепестках цветка или о румянце юной девушки.
Так на заре Нового времени начинает формироваться новая чувствительность, согласно которой красота цвета больше не зависит от его морального, социального или символического значения, а только от его способности радовать глаз. Постепенно эта тенденция распространится на всю Европу.