Против тирании вещей
О романе Макса Блехера «События окружающей ирреальности»
Theo van Hoytema
На русский язык впервые переведен еще один автор европейского модернизма — румынский писатель Макс Блехер, успевший создать не так много, но запомнившийся современникам своей сюрреалистической прозой, пропитанной нигилизмом и поэтикой страдания. Специально для «Горького» о его романе «События окружающей ирреальности» написал Арен Ванян.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Макс Блехер. События окружающей ирреальности. М.: SOYAPRESS, 2025. Перевод с румынского Дарьи Конёр
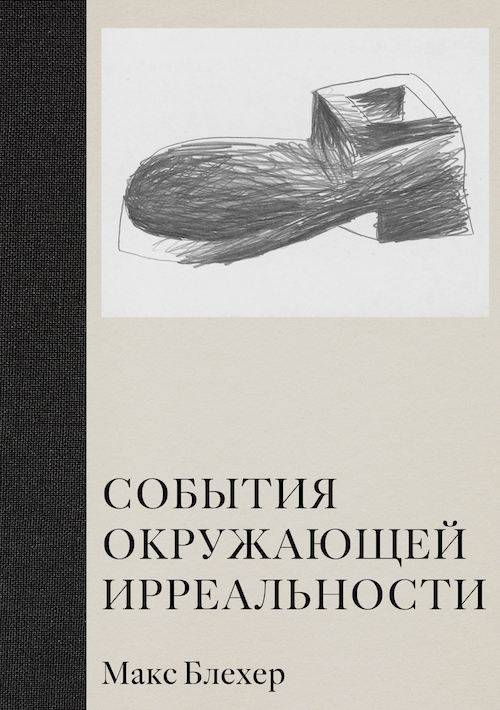
1
В 1938 году после длительной и мучительной болезни умер румынский писатель Макс Блехер. Он был совсем молод (28 лет), при жизни успел опубликовать один сборник стихов и два романа. Следующие сорок лет его имя пребывало в забвении: в годы фашистской Румынии оно было под запретом из-за еврейского происхождения писателя, а в коммунистическую эпоху — из-за модернистского («упаднического») характера его прозы. Его первый роман «События окружающей ирреальности» (1936) был переиздан в Румынии только в 1972 году, вскоре его перевели на французский. Но по-настоящему Блехера прочитали и оценили уже в XXI веке, когда и «События», и другие книги автора в течение 10–15 лет были переведены на несколько десятков языков, в том числе на английский, а такие именитые писатели наших дней, как Герта Мюллер, посвятили Блехеру восторженные статьи.
Блехер родился в красивом средневековом городе Ботошани на севере тогдашнего Королевства Румыния. Его еврейские предки жили там на протяжении нескольких поколений, от них отец будущего писателя унаследовал небольшую фабрику фарфора и фамильный магазинчик в центре города. Благодаря этому у семьи была возможность оплатить сыну образование во Франции. Как отмечают исследователи его творчества, на решение отправить сына за границу повлияли также внутриполитические волнения в Румынии. В 1923 году в королевстве был принят закон о предоставлении евреям румынского гражданства, что спровоцировало антисемитские кампании в университетах и газетах. К тому же Франция была проверенным пунктом назначения румынских интеллектуалов еврейского происхождения; так, одним из первых, кто переехал в Париж, был основатель дадаизма Тристан Тцара.
В 1929-м, когда Максу было девятнадцать, он поступил на медицинский факультет в Руане. Спустя несколько месяцев у молодого человека участились боли в спине. После медицинского обследования выяснилось, что он заразился инфекцией — туберкулезом позвоночника. Вместо будущего врача Блехер превратился в вечного пациента. Его отправили на лечение в курортный город Берк на берегу Ла-Манша, затем, четыре года спустя, лечение продолжилось в швейцарских и румынских санаториях. Состояние юноши становилось только хуже: он буквально оказался прикованным к постели, поскольку из-за болей в спине не мог двигать туловищем. В его теле происходил медленный распад позвоночника, пораженного бактериальным воспалением, с выделением гноя и разрушением костной ткани. Я не говорю уже о моральном унижении, с которым сталкивается человек, прикованный к постели, пока не придет единственное облегчение от боли — смерть. Блехера постигла именно такая участь. О его страданиях можно судить хотя бы по дневниковой записи другого румынского писателя, Михаила Себастиана, который навестил коллегу в 1936 году:
«Я ушел подавленным и измученным. Он [Блехер] живет в тесноте со смертью. Не с абстрактной и неопределенной смертью, лежащей далеко впереди. Это его смерть, конкретная, определенная, известная во всех деталях. <…> Глядя на него, мне хотелось разрыдаться несколько раз. Ночью я слышал стоны и крики из его комнаты, и мне казалось, что с нами дома был кто-то еще — может быть, смерть или вера».
Тем не менее именно в эти годы болезни Блехер впервые всерьез задумывался о литературе. В санаториях он начал писать портреты других больных — как сам потом признавался, из-за скуки (что, конечно, сразу напоминает об Эмиле Чоране, известном своими афоризмами о скуке). Тогда же Блехер прочитал Ницше, Хайдеггера, Бретона, других сюрреалистов. По возвращении в Румынию начался период работы над романами.
Огромную роль в том, что Блехер вообще состоялся как писатель, сыграли его друзья. В 1934 году он познакомился в одном из румынских санаториев с поэтом Джео (Георге) Богза, в будущем известным литератором социалистической Румынии, а тогда, в 1930-х, энергичным авангардистом, симпатизировавшим коммунистам. Блехер признавался в интервью, что «погрузился в ужасную, невыносимую депрессию», но Богза спас его. Услышав, как Макс читает ему рукопись «Событий окружающей ирреальности», он заставил его дописать роман. Блехер исполнил просьбу друга и в 1936 году передал ему законченную рукопись. Богза отвез ее в Бухарест и организовал публикацию. Первым, кто откликнулся положительной рецензией на роман, был молодой литературный критик Эжен Ионеско.

2
«События окружающей ирреальности» — образцовая модернистская проза 1930-х. Сюжет — безрадостный, образы — сюрреалистические, а философская тональность окрашена ранним, еще нигилистическим экзистенциализмом. К слову, «События…» были опубликованы за два года до «Тошноты» Сартра.
Роман открывается знакомством с рассказчиком. По неизвестной причине он не может покинуть комнату. Рассказчик — аноним; мы не знаем, чем он занимается или сколько ему лет; знаем только, что он страдает от одиночества и меланхолии, поскольку его повседневный мир сводится к «я» и комнате. Последнее — комната — одна из причин страданий, именуемых «тиранией объектов»: рассказчик каждый день видит одно и то же, из-за чего мир кажется ему все ирреальнее.
Из-за этого он переживает кризисы личности: ему кажется, что «я» может покинуть его тело в любую минуту. В современной психотерапии, если не ошибаюсь, это называется «деперсонализацией». Можно предположить, что по этой причине рассказчик пишет — а точнее, использует письмо в качестве феноменологического скальпеля, которым редуцирует «тиранические объекты».
Благодаря редукции рассказчик покидает комнату и погружается в прошлое. Он вспоминает, как переживал в детстве странные припадки, вызванные схожим характером пространств — «проклятых мест», «докуда никто не доходил». Детство рассказчика прошло, судя по всему, в глухой и серой румынской провинции начала ХХ века: «За исключением двух проклятых мест весь город терялся в гуще однообразной банальности, с его неотличимыми друг от друга домами, раздражающе застывшими деревьями, собаками, пустырями и пылью».
От «проклятых мест», где он переживал припадки, рассказчик переходит к людям. В магазине швейных машин он познакомился с сестрой владельца и вскоре лишился с ней девственности. Одно телесное воспоминание неизбежно тянет за собой другое: в детстве, не осознавая происходящего, он почти вступил в сексуальный контакт с другим ребенком — но кончилось все поркой со стороны отца. «Сколько бы я ни копался в своих воспоминаниях, в глубинах детства, — пишет рассказчик, — я нахожу вещи, связанные с познанием сексуального».
Затем он превращается в подростка — и вдруг осознает, что «смутные инстинкты раздуваются, растут, деформируются и выходят за свои естественные пределы». Говоря иначе, переход от детства к подростковому возрасту ознаменовался усилением телесных капризов и, как следствие, «постоянным сжатием окружающего мира»: вещи мира упорядочивались вокруг рассказчика, «их невыразимость исчезала», приближалась «тирания объектов». Эта «невыразимость» держит рассказчика-подростка в плену, пока он не знакомится с Эддой — женщиной из семьи местных мещан Веберов. Он наполняется обычной для юности безответной любовью, окрашенной мазохистскими мучениями, в том числе на телесном, сексуальном уровне. Заканчивается эта любовь, разумеется, трагедией.
Завершается роман возвращением в комнату, где рассказчик снова один — и, вероятно, медленно умирает. «В воспоминаниях, — заключает он, — скрывается вся тоска нашего неповторимого и ограниченного существования в мелочном и монотонном мире».
3
Ионеско называл Блехера «румынским Кафкой», но это сравнение, на мой взгляд, подходит только с дневниковым Кафкой или автором письма к отцу. В этих текстах можно найти знаменитые кафкианские следы беспощадности к собственной душе и памяти, которые также отличают Блехера. Есть у него схожие черты и с другими модернистами: с тем же Прустом, который писал, будучи прикованным к кровати, не говоря уже о роли воспоминаний в его прозе. Другое дело, что Пруст посредством воспоминаний, скажем так, смотрит вперед — к тому, чтобы выстроить собственный понятийный аппарат, своего рода теорию перебоев сердца — теорию чувств, с помощью которой можно было бы познать себя и наполниться светом. Страдания, если взглянуть на них под иным углом, могут пролить свет на прежде неизвестный смысл о нас самих: почему, например, поцелуй перед сном может быть вопросом жизни или смерти? Тем самым рассказчик у Пруста ищет точку света во тьме. Ему важно — экзистенциально важно — снова испытать радость любви, которая получила символическое воплощение в поцелуе матери перед сном (из-за чего он затем воспроизводил этот ритуальный поцелуй с другими женщинами).
Блехер действительно использует схожие приемы письма. Он вскрывает свою душу и память с почти медицинской холодностью и беспощадностью. Выбирает какое-то чувство, лежащее на поверхности души, например те же припадки или воспоминания о женских руках, вспарывает их писательским ножом и всматривается в детские воспоминания, которые в них укрывались. Но точку света во тьме Блехер не ищет. Вместо этого он совершает окончательную трансгрессию в сторону тьмы. Он перебирает детские воспоминания, которые были связаны с буквальной и метафорической гнилью, грязью и тьмой: «Вокруг меня простиралось грязное поле… Это была моя истинная плоть; одежда содрана, кожа содрана, мышцы содраны, подо всем этим — грязь».
Например, в романе есть сюрреалистическая сцена, когда рассказчик-подросток находит место, где чуть ли не впервые чувствует себя счастливым: это темный подвальный коридор под сценой театра, где он совершенно один. Такая десакрализация «света», вообще всего привычно «высокого», достигает предела, как мне кажется, в другой сцене — столь психологически травмирующей, что ее нельзя забыть. Дедушка рассказчика умирает, брат дедушки просит разрешения у семьи исполнить почетный долг — совершить омовение покойного. Он делает это с нежностью, из-за чего в романе возникает на удивление человечная, светлая сцена. Но затем кладбищенские работники делают брату дедушки замечание, что он не справился как следует, и совершают еще одно действие с покойником — унизительное, шокирующее. Человек обыденный даже не подозревает, что такие вещи совершаются с покойниками. И мне кажется, что роль рассказчика в романе «События окружающей ирреальности» такая же, как у этих кладбищенских работников, — дойти с помощью слов туда, «докуда никто не доходил».
Блехера, повторюсь, впервые внимательно прочитали и оценили в 2000-е, когда в Европе возникла мода на «возвращение» писателей 1930-х. К тому же поколению принадлежит, например, Аннемари Шварценбах, которая, как и Блехер, была впервые переведена на русский лишь недавно. Помимо этого, интерес к писателям 1930-х удачно рифмовался с набиравшим популярность в Европе 2000-х автофикциональным жанром. Но если Шварценбах действительно напоминает современных автофикшн-авторов (скажем, из-за чрезмерной эмоциональной фиксации на собственном «я»), то проза Блехера — в первую очередь из-за сюрреалистической техники письма и ее общего нигилистического характера — больше напоминает такие трансгрессивные образцы новой автобиографической литературы Европы, как, например, «Самоубийство» Эдуара Леве. Возможно, благодаря этому роман сохраняет актуальность и для современного русскоязычного читателя, тем более что трансгрессивные авторы всегда пользовались у него любовью.