Кровь-барабанщик
О сборнике прозы Ибрагима аль-Куни — классика арабоязычной литературы
Ибрагим аль-Куни — один из главных авторов, пишущих в наши дни на арабском языке. Значительную часть жизни он прожил в СССР, однако в России его знают лишь прицельно интересующиеся актуальной литературой стран Магриба. Это досадное упущение старается восполнить издательство Common Place, выпустившее сборник рассказов аль-Куни «Глоток крови», о котором для «Горького» сегодня рассказывает Эдуард Лукоянов.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Ибрагим аль-Куни. Глоток крови. М.: Common Place, 2025. Перевод с арабского Игоря Ермакова, Игоря Тимофеева и др.; перевод с английского Игоря Перникова
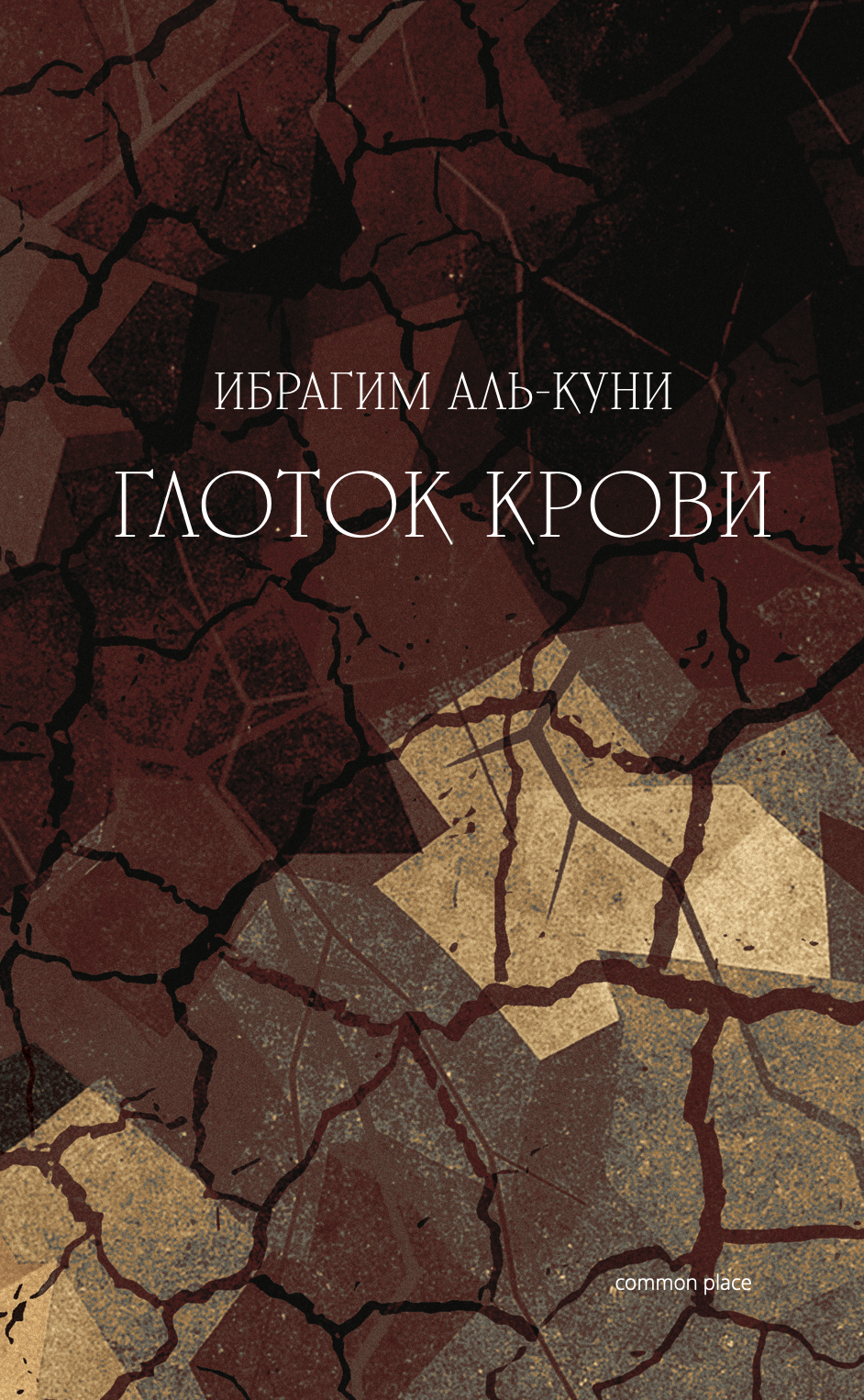
В 1939 году Хорхе Луис Борхес написал примечательную микроновеллу «Два царя и два их лабиринта». Ее внешнюю, сюжетную, сторону можно пересказать в нескольких предложениях. Вавилонский царь возвел хитроумнейший лабиринт с бесконечными лестницами, дверями, коридорами — каждый, кто в него заходил, уже никогда не возвращался обратно. Владыка решил похвастаться своим творением перед царем Аравии. Тот, оказавшись внутри, сердечно помолился Аллаху и все-таки нашел выход, на прощание сообщив, что у него в родных краях есть лабиринт похитрее. Через некоторое время аравийский царь вернулся в Вавилон с огромным войском, разорил город и пленил его правителя. Три дня он скакал на коне со связанным вавилонским царем, чтобы бросить его посреди пустыни — лабиринта, где нет ни лестниц, ни даже стен. О дальнейшей судьбе вавилонского гордеца догадаться нетрудно.
С одной стороны, эта история иллюстрирует типично борхесовский парадокс: самое простое в действительности куда сложнее самого сложного. С другой — притчу о царях и лабиринтах можно прочитать как эпос о цивилизационной встрече оседлого государства, оградившегося от мира высокими стенами и разлагающегося в декадентской роскоши, с племенным обществом кочевников, избравшим суровую жизнь «без лестниц и стен». Это роковое столкновение стало одним из ведущих мотивов творчества Ибрагима аль-Куни — арабоязычного ливийского писателя туарегского происхождения, принадлежащего одновременно мирам Аравии и Вавилона.
В предисловии к вышедшему в Common Place сборнику «Глоток крови» Реза Негарестани сокрушается: «Меня бесит, что в США постоянно говорят об идиоте Джонатане Франзене, но никогда — об аль-Куни. Этот человек — живая легенда. Ему следует отдать должное за создание философской литературы в том виде, в каком мы ее знаем в XXI веке». Оставив за скобками инвективу в адрес Франзена, тем более что его сравнение с аль-Куни кажется не самым очевидным, хочется признать справедливыми два замечания иранского спекреалиста.
Во-первых, аль-Куни и в самом деле малоизвестен за пределами арабоязычного мира (где его, наоборот, массово почитают за живого классика). На Западе его наиболее активно издают и даже отмечают государственными наградами во Франции — стране, исторически находящейся с Ливией в тесных, пусть и неравноправных связях. Куда примечательнее, что про аль-Куни почти не вспоминают в России, с которой писатель связан биографически: образование он получил в Литературном институте и в СССР находился до самого его распада. В итоге о нем почти нечего читать на русском — с ходу вспоминается лишь очерк Игоря Перникова из далекого 2020 года. Можно сказать, что для русскоязычных читателей аль-Куни, как и другие замечательные афро-азиатские авторы, попросту оказался в слепом пятне — во многом из-за неудачной культурной политики Советского Союза, вкладывавшего огромные финансовые и человеческие ресурсы в этот процесс (подробно об этом можно прочитать в недавно изданной «НЛО» книге Росена Джагалова «От интернационализма к постколониализму: литература и кинематограф между вторым и третьим миром»). Сперва его аскетичная проза затерялась в многотомном «Восточном альманахе» — грандиозном проекте, не нашедшем, увы, вдумчивого читателя: все-таки интеллигенция у нас традиционно скептически относится к национально-освободительной риторике, когда ее поддерживает (или, что чаще, делает вид, будто поддерживает) родное правительство. К концу же 1980-х у аль-Куни и вовсе не было шансов добраться до публики, и без того захлебнувшейся в потоке вчерашней «запрещенки», вдруг ставшей легальным товаром. (Впрочем, и в 2010-м незамеченным осталось русское издание его романа «Бесы пустыни».)
Во-вторых, симптоматично замечание Негарестани о том, что аль-Куни, родившийся в 1948 году и начавший публиковаться в 1970-е, — автор философской прозы XXI века. И в самом деле, крайне сложно прочитать его через эстетико-политические доктрины, доминировавшие в прошлом веке. Для постмодернизма он слишком укоренен в национальной почве, язык его произведений демонстративно «традиционный», отточенный, не терпящий игры ради игры — неспроста своим главным учителем он выбрал Акутагаву. Советскому официозу о нем тоже сказать было нечего, разве что зажать в шаткие рамки все тех же национально-освободительных движений и борьбы коренных народов Сахары против гнета империализма в самых разных его формах — от итальянского фашизма до диктатуры нефтедобывающих корпораций. Для западных же левых аль-Куни, пожалуй, недостаточно прямолинеен — несмотря на обилие крови, льющейся по страницам его книг, аль-Куни писатель отнюдь не воинственный, редко (и еще реже — удачно) прибегающий к языку плаката. Гений аль-Куни раскрывается там, где он говорит полунамеком, оставляя читателя в недоумении, из которого, в свою очередь, мучительно рождается намек на понимание сказанного. (Не таковы ли и лучшие вещи, скажем, Пола Боулза?) Кажется, самого аль-Куни вообще особо не волнуют идеологические установки, заданные глобальной культурой первого и второго мира, хотя сам он прекрасно осведомлен, например, о классиках марксизма и неомарксизма. По-настоящему его занимают фундаментальные первоосновы бытия, из которых уже в качестве побочных продуктов производятся философские, социальные, экономические и политические надстройки.
Эти основы он находит в родной пустыне, не имеющей ничего общего с барханами, шатрами, ретивыми скакунами и их загадочными наездниками, что рисовало, рисует и всегда будет рисовать коллективное воображение по другую сторону Средиземного моря. Пустыня — это бесплодная груда камней, где пищу дают только деревца ююбы, которые еще надо встретить, газели, которых еще надо подстрелить, да верблюдицы, которых самих надо чем-то кормить, чтобы давали молоко. В пустыне нет ничего и при этом в ней всего избыток — как в парадоксальной притче Борхеса. В пустыне ничто не останавливает человеческий взгляд, и потому он видит даже то, чего нет, и упорно идет в сторону непрерывно отдаляющихся миражей. Только в таком оголенном бытии и может разглядеть суть жизни человек — не просто же так туда устремлялись в древности святые. А еще в пустыне ничего не происходит, поэтому каждое событие в ней — неожиданность, и, как правило, роковая. Сборник «Глоток крови» почти целиком состоит из историй о таких вот неожиданностях, переворачивающих с ног на голову уклад отдельных людей и целых племен.
Сахара все выворачивает наизнанку: вода дает жизнь, и она же казнит («Внеочередная молитва»), возвращение оборачивается изгнанием («Чудовище»), добровольное изгнание — возвращением домой («Новые дали», «Куда ты, бедуин?») и так далее. Мы сознательно воздерживаемся от пересказа вошедших в «Глоток крови» произведений, поскольку это вещи хоть и эпические, но жанрово все же наиболее близкие к классической новелле, в которой сюжетная составляющая служит самодостаточным эстетическим элементом. И все же хочется остановиться чуть подробнее на одном рассказе, который кажется смысловым ядром малой прозы аль-Куни.
«Барабаны пустыни» начинаются с бытовой зарисовки. Водитель лендровера Джаббур везет через пустыню «городского» Мисбаха — журналиста. На привале Джаббур достает бутылку виски и уговаривает Мисбаха выпить, чтобы тот «рассказал про Европу». Мисбаху явно не до таких разговоров. Вместо этого они кратко спорят о некоем лейтенанте — Мисбах слышал, что он «хороший человек», но Джаббур настаивает на обратном: «Хороший человек не убивает».
Ночь застает их посреди пустыни, и Джаббур предлагает здесь же и остаться до рассвета: бензина не так много, не стоит рисковать, тратя его на поездку вслепую. В темноте Мисбах слышит грохот барабанов, но его источник для него непонятен, однако Джаббур объясняет — эту музыку исполняет сама пустыня:
«Как же она страдает днем, когда солнце обжигает ее тело. Она жалуется на свою боль, и ее песчинки исторгают волшебную музыку, безумные напевы. Пустыня бьет в барабаны до самого утра и вновь бросает свое тело в объятия палача. И вновь продолжаются ее бесконечные страдания».
К полудню они так и не находят трассу, и бензин в баке кончается. Джаббур клянет себя за то, что пил спиртное, и думает, что пустыня не простит его за эту слабость. Оба героя мучаются от обезвоживания, Мисбах теряет сознание и просыпается в доме, где о его самочувствии спрашивает тот самый лейтенант. С этого момента повествование в «экзотической» новелле о том, как «пустыня забрала нарушившего ее законы», полностью переворачивается: Джаббур правильно понял боль пустыни, но не понял истинную причину ее страданий.
Оставив дальнейшее развитие этой истории читателю, лишь укажем, что в этой мастерски сделанной прозе со всей силой развит мотив главнейшей трагедии Сахары — прихода цивилизации. Цивилизация приносит в пустыню лишь раздрай: лендровер, заменивший верблюда-махрийца, увезет не туда, на верную погибель; рядовой медосмотр в полицейском участке обернется трагедией для целого племени («Лихорадка»); а современное мощное оружие изгонит стада дичи. Ее обитатели, будто назло всем чужакам (или сама пустыня им не дала?), так и не вступили в знакомые нам социальные, политические и экономические отношения.
В Сахаре деньги ничего не стоят, полиция никого не защитит, партии не найдут сторонников. Здесь ценность представляют лишь вода, винтовка и послушный верблюд. Туареги, описанные аль-Куни, живут своей параллельной жизнью. Они могут не знать, кто такие Грациани и Гитлер, но подрываются на оставленных их солдатами минах, как в притче «Осколок». А герой рассказа «Куда ты, бедуин?» и вовсе не подозревает, что живет в государстве, а точнее — королевстве: примерно понять, что такое «король», ему удается только после щедрых побоев и нескольких ночей в полицейском участке.
«Цивилизованным» людям с полицейскими дубинками, самолетами-бомбардировщиками и противопехотными минами, впрочем, невдомек, что у Сахары — «наместницы Аллаха на земле» — есть одно куда более страшное свойство, чем суровый климат, — здесь все таит в себе отмщение. Так, в пронзительной новелле «Газели» герой, поступивший на службу государству в качестве егеря, моментально испортился, стал дурным, безумным человеком — и воздали ему за это не соплеменники, а самец газели, чью самку он жестоко убил. А еще Сахара способна удовлетворить требование, вынесенное в заглавие крайне поэтичного рассказа «Погибший просит слова», в котором души людей, сожженных итальянскими фашистами, превращаются в оползни, гасящие костры путников.
Пустыня предельно проста и, напомним, бесконечно сложна. Так и сборник «Глоток крови» хоть и состоит из небольших рассказов разных лет, неизбежно образует единое целое, которое можно и даже нужно читать как своего рода шкатулочный роман. Сюжеты в нем буквально кочуют из новеллы в новеллу, образуя единое повествование — настолько трагичное, насколько удивительным образом жизнеутверждающее и правда отвечающее на самые страшные вопросы XXI века. Ответы эти понравятся далеко не всем, и все же они стоят того, чтобы их услышали, как Мисбах в темнейшей ночи услышал барабаны пустыни.