Акутагава Рюноскэ: портрет человека модерна
К 130-летию выдающегося японского писателя
«Моя мать была сумасшедшей. Никогда я не знал материнской любви» — так начал Акутагава Рюноскэ автобиографическую повесть «Поминальник». Он родился в 1892 году в Токио, в семье молочного коммерсанта. Поскольку его родители были людьми уже немолодыми, они, следуя старинному обычаю, сделали вид, что ребенка подкинули, а его «отцом» назначили управляющего одной из молочных лавок. Вскоре после рождения Рюноскэ у матери появились признаки психического расстройства, и, когда ему исполнилось десять лет, она умерла. В дальнейшем мальчика воспитывали в семье его тетки.
Всю свою недолгую жизнь Акутагава много читал. Для него рано открылась как красота японской классики, так и мастерство западных писателей. Из русских авторов, например, он знал не только Толстого, Достоевского, Тургенева, Гоголя, Горького, Андреева, но и Сологуба, Арцыбашева, Пильняка. Япония в те годы стремительно вестернизировалась и модернизировалась — некоторые всерьез призывали «сбросить с парохода» Басё и «Гэндзи» и даже перейти на латиницу. Акутагава не раз признавал, что «мало всей жизни, чтобы смочь написать на таком же уровне», как Чехов и Роллан, но все же сумел претворить звучавший в нем «голос Запада» в нечто самостоятельное и подлинное. Хотя это и дорого ему обошлось.
Превосходно владея английским, французским и немецким, Акутагава какое-то время служил преподавателем английского языка, но оставил место ради свободного творчества. Необходимость добывать деньги литературной поденщиной сильно тяготила его, превыше всего ставившего художественное совершенство. Однажды он даже сказал, что «человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера». Свою жизнь он точно ценил не больше.
С юности его мучали боли в животе, впоследствии к ним добавилось нервное истощение. Исступленный писательский труд, возгоняемый табаком и кофе, привел к тому, что Акутагава подсел на барбитал. Ухудшение самочувствия еще больше ввергало его в депрессию, так как он связывал это с грядущим безумием, которое считал наследственным. Жизнь ему стала казаться «еще большим адом, чем сам ад». В конце концов ему пришлось признать свое поражение. Последние строки опубликованной посмертно «Жизни идиота» так и называются:
«Поражение. У него дрожала даже рука, державшая перо. Мало того, у него стала течь слюна. Голова у него бывала ясной только после пробуждения от сна, который приходил к нему после большой дозы веронала. И то ясной она бывала каких-нибудь полчаса. Он проводил жизнь в вечных сумерках. Словно опираясь на тонкий меч со сломанным лезвием».
«Тонкий меч» окончательно сломался 24 июля 1927 года, когда Акутагава покончил с собой, приняв смертельную дозу снотворного.
Судьба Акутагавы если не типична, то характерна для творческой личности эпохи модерна — неважно, где она проживала: в Японии или Норвегии. Речь идет о некоторых экзистенциальных характеристиках, которые проявились во всей своей безмерности именно в ту эпоху, послужив причиной как множества великолепных произведений искусства, так и жизненных трагедий их авторов. «Писатель не может надеяться, что жизнь его будет спокойной и мирной» — этим словам Акутагавы мы предпосылаем следующие основания: драматическое ощущение отрыва от корней («распалась связь времен»), обостренная чувствительность, чрезвычайная требовательность, творческое самоистязание. Эти качества, разумеется, не исчерпывают жизнь и труды японского писателя, но помогают понять их в контексте духовного единства модерна. Вместе они рисуют портрет индивида, который испытывал открывшиеся ему условия существования как формы предельного опыта, разрушительного для человека и значимого для человечества.
«Я скептик во всем»
 Модерн был временем не только радикального разрыва с предшествующими традициями, но и целостного осмысления того, чем эти традиции были и что они для людей значили. Акутагава был в полной мере новым, модернистским человеком — скептиком, ироником, рационалистом. В рассказе «Носовой платок» он высмеял профессора, прекраснодушно мечтающего, что старинный самурайский кодекс бусидо по-прежнему будет незаменим в обществе. Однако, когда дело касалось христианства или буддизма, порой сам Акутагава превращался в такого мечтателя. Его серию новелл о христианских и буддийских чудесах («Показания Огата Рёсай», «Смерть христианина», «Дзюриано Китискэ», «Нинкинский Христос», «Паутинка», «Кончина праведника», «Снежок», «Святой» и др.) можно назвать классическими духовными притчами, где вера торжествует, а порок посрамлен. Об автобиографическом герое «Жизни идиота» Акутагава писал, что «он чувствовал зависть к людям средневековья, которые полагались на бога. Но верить в бога, верить в любовь бога он был не в состоянии».
Модерн был временем не только радикального разрыва с предшествующими традициями, но и целостного осмысления того, чем эти традиции были и что они для людей значили. Акутагава был в полной мере новым, модернистским человеком — скептиком, ироником, рационалистом. В рассказе «Носовой платок» он высмеял профессора, прекраснодушно мечтающего, что старинный самурайский кодекс бусидо по-прежнему будет незаменим в обществе. Однако, когда дело касалось христианства или буддизма, порой сам Акутагава превращался в такого мечтателя. Его серию новелл о христианских и буддийских чудесах («Показания Огата Рёсай», «Смерть христианина», «Дзюриано Китискэ», «Нинкинский Христос», «Паутинка», «Кончина праведника», «Снежок», «Святой» и др.) можно назвать классическими духовными притчами, где вера торжествует, а порок посрамлен. Об автобиографическом герое «Жизни идиота» Акутагава писал, что «он чувствовал зависть к людям средневековья, которые полагались на бога. Но верить в бога, верить в любовь бога он был не в состоянии».
В наиболее, пожалуй, сложном «рассказе о чудесах», «Бататовой каше», автор повествует о ничтожном слуге («гои»), над которым все при дворе владетельного князя потешались и который был настолько жалок, что мечтал только об одном: наесться всласть бататовой каши, праздничного кушанья аристократов. Прослышав об этом, князь решил проучить слугу и приказал сварить тому несколько котлов такой каши, от чего гои пришел в ужас и понял, что никогда больше ее в рот не возьмет. Безусловно, этот рассказ является парафразой гоголевской «Шинели», чего не скрывает и Акутагава, пару раз прямо цитирующий русского классика. Но интересно взглянуть на перекличку двух шедевров чуть глубже, чем это сделал Аркадий Стругацкий в своей статье «Три открытия Акутагава Рюноскэ», усмотревший лишь тот вывод, что «маленькому человеку гораздо легче и проще жить без всяких желаний».
Как мы помним, Гоголь не заканчивает на гибели Акакия Акакиевича и наделяет его посмертным существованием, при котором его герой продолжает охотиться за вожделенной шинелью. Такой прием, философски осмысленный, означает тотальное закабаление человеческого бытия наличным миром вещей и предметов. Даже смерть не приносит освобождения. Выхода просто нет. Совсем иначе считает Акутагава. Он также вводит в повествование «потусторонний» элемент — лису, которая сначала повстречалась гои по дороге, а затем бесстрашно пришла отведать бататовой каши рядом с ним. Таким образом, если для Акакия Акакиевича окружающий мир однозначно враждебен и губителен, то гои он, наоборот, помогает и ведет в верном направлении. Еще до того, как взяться за черпак с кашей, у гои напрочь пропала прежняя жажда лакомства, затем же, глядя на лису, он все осознал правильно. В нем будто бы проснулась та «природа будды», которой, по буддийским представлениям, обладает каждый из нас и которая исконно просветлена и умиротворена. С этой точки зрения, приобретают совершенно иной смысл и первоначальные незлобивость, простодушие, отсутствие самолюбия японского Акакия Акакиевича, оказываясь характеристиками практически святого, которому остается только распрощаться с последней привязанностью.
Можно даже пойти дальше и символически представить злоключения гоголевского героя как трагедию нашего физического тела, а героя Акутагавы — как пробуждение нашей души (яп. «кокоро»). Кстати, «Кокоро» — название одного из последних романов Нацумэ Сосэки, учителя Акутагавы, к которому он относился с огромным уважением. Внимание к тончайшим движениям человеческой души, к ее противоречиям и безднам объединяет не только этих двух авторов, но и многих других, считавших, вслед за Таямой Катай, что писатель должен не сочинять литературу, а говорить чистую правду, а такую правду он может сказать только о самом себе. Так в первом десятилетии двадцатого века в Японии возникла и сразу стала очень влиятельной эгобеллетристика, или «повесть о себе».
«Я обязан писать только правду»
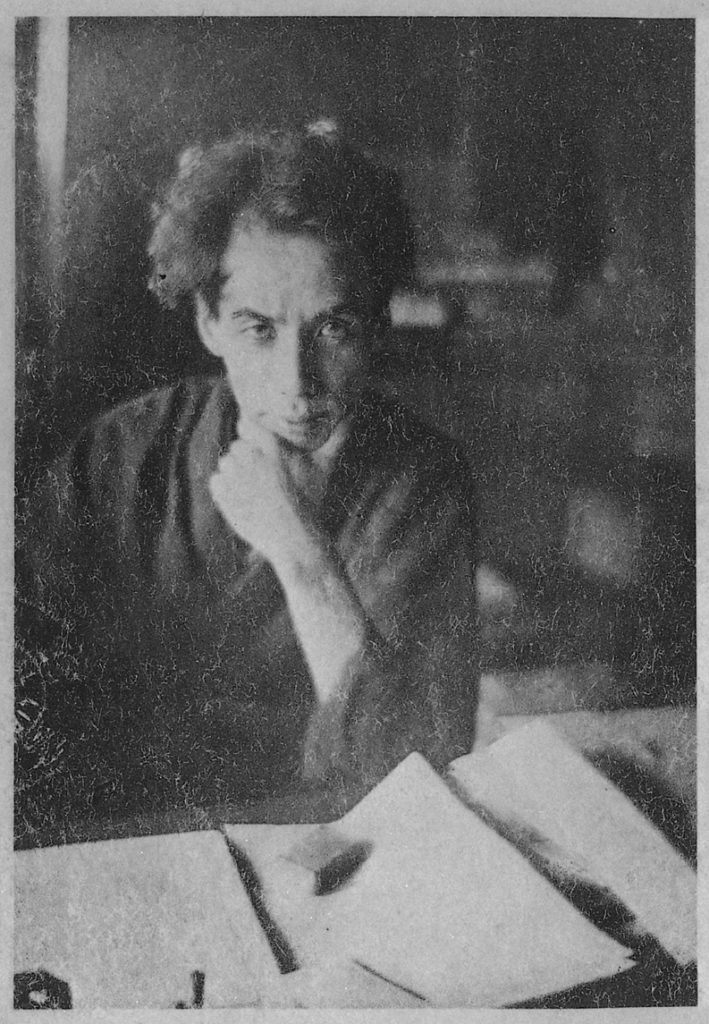 Те, кто полагает автофикшн новомодным явлением, будут удивлены, узнав, сколько копий по поводу этого жанра было сломано в тогдашней Японии. Не остался в стороне и Акутагава. Признавая за самообнажением писателя известную смелость и честность, он тем не менее был против выхолащивания высоких литературных приемов в пользу одного только «плоскостного» и «неприкрашенного изображения». В ранний период творчества он оттачивал свой стиль и искал опору в непреходящем, однако это оказалось слишком абстрактным делом. Модерн, порвав с традицией, властно требовал новых смыслов — и где их можно было взять, как не в себе самом?
Те, кто полагает автофикшн новомодным явлением, будут удивлены, узнав, сколько копий по поводу этого жанра было сломано в тогдашней Японии. Не остался в стороне и Акутагава. Признавая за самообнажением писателя известную смелость и честность, он тем не менее был против выхолащивания высоких литературных приемов в пользу одного только «плоскостного» и «неприкрашенного изображения». В ранний период творчества он оттачивал свой стиль и искал опору в непреходящем, однако это оказалось слишком абстрактным делом. Модерн, порвав с традицией, властно требовал новых смыслов — и где их можно было взять, как не в себе самом?
В начале двадцатых Акутагава пробует силы в новом жанре, создав цикл рассказов о своем альтер эго, учителе Ясукити, а в последние два года жизни только и пишет, что бесконечный Ich-Roman. «Поминальник», «О себе в те годы», «У моря», «День в конце года», «Зубчатые колеса», «Диалог во тьме», «Сон», «Жизнь идиота», собрания коротких записок «Слова пигмея» и «Заметки Тёкодо» погружают читателя в кипящее болью и страстью нутро человека эпохи модерна — Акутагавы Рюноскэ.
«У меня нет совести. У меня есть только нервы» — так Акутагава начинает сеанс саморазоблачения. Обнаженные нервы усиливают его скептицизм до неприятия чего бы то ни было. «Все ложь, — заявляет он. — Политика, промышленность, искусство, наука — все для меня в эти минуты было не чем иным, как цветной эмалью, прикрывающей ужас человеческой жизни». Люди казались ему зубчатыми колесами, сцепленными друг с другом в бесконечном и бессмысленном движении. «И дух традиции, и дух современности» одинаково делали его «несчастным», чего он вынести не мог.
Тотальной критике современной жизни посвящена повесть «В стране водяных» — одна из лучших и пронзительных у Акутагавы. Ее герой попадает к японским водяным — каппам, которые, впрочем, ведут вполне размеренную буржуазную жизнь. Правда, книги у них делают из ослиных мозгов «по два сэна*Японский аналог копеек или грошей. за тонну», самки гоняются за самцами, чтобы немедленно ими овладеть, уволенных работников тут же съедают, а первая заповедь их религии (в которой Бог создал мужчину из мозгов женщины) звучит как «Жрите и совокупляйтесь». Говоря словами одного из капп, Акутагава в этой повести решил «посмотреть, как выглядит мир вверх ногами. Оказывается, все то же самое». Неудивительно, что ее герой запутывается в двух мирах и попадает в психиатрическую лечебницу, где у него по крайней мере остается возможность не выбирать между ними, а значит, в какой-то мере быть свободным.
Еще в молодые годы Акутагава, вспоминая слова Честерфилда: «Мудрыми можно считать тех, чей разум смеется, а сердце грустит», принял на себя обязательство «идти по своему жизненному пути с насмешливым умом и ранимым сердцем». Впоследствии желание смотреть на все «плача и смеясь» привело к сильнейшей эскалации душевного конфликта. Влюбленность и женитьба не принесли покоя. Длительное путешествие в Китай лишь отдалило неизбежное. У Акутагавы оставался единственный источник контроля его разума и психики — творчество. Но и с ним было не просто, ведь писатель жаждал совершенства.
«Разум позволил мне понять бессилие разума»
 Акутагава предъявлял к себе как творцу высочайшие художественные требования. Вообще он считал, что «литература в истинном смысле — это только поэзия. Проза занимает место в литературе только благодаря содержащейся в ней поэзии». Сокрушаясь, что не родился в «стране рыжеволосых» (то есть европейцев), где существует «такая поэтическая форма, как поэма», Акутагава тем не менее и свою прозу оценивал по высшей мерке поэзии, отчего, кстати, и писал короткие новеллы, а не романы, так как в новелле проще добиться «единства формы и содержания».
Акутагава предъявлял к себе как творцу высочайшие художественные требования. Вообще он считал, что «литература в истинном смысле — это только поэзия. Проза занимает место в литературе только благодаря содержащейся в ней поэзии». Сокрушаясь, что не родился в «стране рыжеволосых» (то есть европейцев), где существует «такая поэтическая форма, как поэма», Акутагава тем не менее и свою прозу оценивал по высшей мерке поэзии, отчего, кстати, и писал короткие новеллы, а не романы, так как в новелле проще добиться «единства формы и содержания».
Для Акутагавы совершенство было острым лезвием, идя по которому легко соскочить то в развлекательность, то в утилитарность. Поэтому нужно ориентироваться только на высшие достижения и создавших их мастеров. «Необходимо, — призывал он, — чтобы каждый был подвижником, стремящимся стать Гёте. А тот, кто не способен поставить перед собой такую цель, сколько бы лет ни прошло, не сможет стать даже кучером в доме Гёте». При этом у него не было романтического пиетета перед вдохновенно-интуитивно созидающим гением — «творческая деятельность любого гения, — считал он, — всегда сознательна» и состоит из тяжелого труда и взращенной в самом себе способности видеть гармонию логоса.
Подобным принципам не так-то просто соответствовать. Акутагава постоянно жаловался в письмах к друзьям, что уже вышедшие вещи его не удовлетворяют. Желание сравняться с Гёте приводило к обратному эффекту: ощущению себя последним кучером. Нарочито однообразные названия сочинений и их глав — «Слово идиота», «Жизнь идиота», «Слова пигмея», «Молитва пигмея» — выдают навязчивый мотив самоуничижения и раскаяния. Свое творчество Акутагава оценивал не более чем как «кувыркание и беззаботную болтовню, развлекающие публику». А ему хотелось бы «подобно Вийону, опуститься на самое дно! Но условия его жизни и недостаток физической энергии не позволяли ему сделать это».
Гипертребовательность к себе оборачивалась аналогичной требовательностью и по отношению к другим. Называя себя идиотом, он тут же пишет, что «идиот убежден, что все, кроме него, идиоты» (из чего мы заключаем, что это не отсылка к князю Мышкину). Герой «Жизни идиота», чувствуя себя «евнухом жизни», презирает и боится общество. Конечно, всегда можно сказать, что автор и рассказчик не одно и то же, но вот прямой голос Акутагавы из писем: «Мир — это пигмеи, заключенные в ящик». Считая, что «все, что у нас сейчас написано, ничего не стоит. И я ничего не стою. И японская литература ничего не стоит», Акутагава был одержим поиском такой предельной формы подлинного самовыражения, по сравнению с которой все предыдущие попытки — наивны и лживы. Именно с таким ощущением читал он «Исповедь глупца» Стриндберга, «Исповедь» Руссо, «Мою исповедь» и «В чем моя вера» Толстого и прочие «откровения» (лишь для «Поэзии и правды» делая исключение). Поэтому мы можем быть уверены, что в последние два года жизни Акутагава стремился к своему абсолютному воплощению в тексте. И именно здесь он потерпел поражение.
«Впереди его ждало безумие или самоубийство»
 С одинаковой долей истины можно сказать, и что Акутагава испытывал нервное истощение и начал сходить с ума от непосильности взятой на себя задачи, и что надвигающееся сумеречное сознание такую сверхзадачу и породило. Ровно то же самое можно приписать Ницше, да и многим другим фигурам эпохи модерна, жившим в титаническом напряжении сил. Это напряжение вызывало духовный кризис такой глубины и в таких масштабах, что потребовалось целое философское направление, чтобы его осмыслить.
С одинаковой долей истины можно сказать, и что Акутагава испытывал нервное истощение и начал сходить с ума от непосильности взятой на себя задачи, и что надвигающееся сумеречное сознание такую сверхзадачу и породило. Ровно то же самое можно приписать Ницше, да и многим другим фигурам эпохи модерна, жившим в титаническом напряжении сил. Это напряжение вызывало духовный кризис такой глубины и в таких масштабах, что потребовалось целое философское направление, чтобы его осмыслить.
Мы еще можем понять, что Акутагава ощущал жизнь как ад, но почему он считал, что попал туда «за совершенные преступления»? В каких поступках он раскаивался? В чем чувствовал неизбывную вину? Эти вопросы ведут нас к одному из самых совершенных рассказов Акутагавы — «В чаще», получившему всемирную известность благодаря экранизации Куросавы «Расёмон». Рассказ представляет собой расследование убийства самурая в лесу. Есть подозреваемый — разбойник, есть свидетель — жена самурая, есть даже сам потерпевший — дух самурая, говорящий устами прорицательницы, — но, в отличие от классического детектива, ни один из них не выгораживает себя. Напротив, каждый берет вину на себя, признаваясь, что убийство совершил именно он! В чем же дело — в загадочном японском характере, который нам не понять? Или здесь автор говорит нечто глубоко личное, сокровенное — и в то же время общее для целой эпохи, независимо от деления на Восток и Запад?
В год смерти Акутагавы Мартин Хайдеггер опубликовал давно написанный труд «Бытие и время», в котором были заложены основы экзистенциального анализа жизни и, кроме всего прочего, дана фундаментальная характеристика человеческого бытия как бытия-виновным. Последнее означало, что человек виновен не тогда только, когда совершил нечто предосудительное, но самим фактом своего существования в мире, своей заброшенностью в этот мир, одним только присутствием (Dasein) в нем. Любой его поступок, любой шаг, чем бы он ни был обусловлен, искажает мир, а значит, может быть вменен ему в вину. Заранее и сразу во всем обвиненный, человек не просто чувствует свою ничтожность, но этой ничтожностью и является. Только решимость принять на себя вину полностью и за все дает ему некоторую опору для существования, окончательное же прояснение судьбы человека возможно лишь в бросании себя на смерть как единственное подлинное удостоверение своего бытия.
«Последние два года я думаю только о смерти» — так в своем «Завещании» Акутагава подчеркивает особенность уже упоминавшегося нами заключительного периода его жизни. «Завещание», адресованное «другу», представляет собой, по словам Акутагавы, «психологию самоубийцы». Перед овладевшим им «всепоглощающим желанием смерти» обратились в ничто «сочувствие семье» и прочие ценности. Тем не менее речь не идет о потере рассудка и трезвого взгляда на происходящее. Акутагава, подобно образцовому самураю, тщательно оценивал и выбирал обстоятельства своей грядущей гибели с точки зрения их эстетических качеств. Кажется, он даже испытывал облегчение, что наконец встал на правильный путь — «путь движения к смерти».
Безусловно, японцу намного проще принять самоубийство как достойное завершение жизни, чем европейцу. В обществе, предельно иерархичном и стесненном жесткими рамками, основанном на примате церемониальности и оценки со стороны*Известен случай, когда после страшного землетрясения 1923 года в Токио отец в завалах раскопал свою чудом выжившую дочь и та, вместо того чтобы броситься в слезах в объятия папочке, чинно поклонилась ему, получив такой же поклон в ответ., суицид представляется желанным самоосвобождением, мгновением свежей вольницы. Неслучайно традиционным самурайским способом было взрезание живота, где, по старинным поверьям, концентрировался дух человека, высвобождаемый таким образом наружу. Японец вполне согласился бы со словами политика и стоика Катона Утического, сказанными им перед тем, как распороть себе живот: «Сейчас я принадлежу самому себе». Но не только возвращением к себе можно охарактеризовать поступок Акутагавы. Ведь он был еще и творческой личностью эпохи модерна.
В раннем рассказе Акутагавы «Генерал» юноша, олицетворяющий новую Японию, неприятно удивлен не тем, что генерал Ноги совершил харакири, уйдя из жизни вслед за своим господином, императором Мэйдзи, а тем, что он снялся на фото перед этим. «Я хочу покончить с собой так, чтобы, по возможности, никто, кроме семьи, не видел моего трупа», писал Акутагава в «Завещании». Томимый жаждой совершенства, потерпев, по его мнению, неудачу с тем, чтобы воплотить это совершенство в текстах, рассчитанных для публики, он последнее свое творение оставил исключительно для самого себя — для себя и личных отношений с бытием. Никогда, пожалуй, за всю свою историю человек не был настолько близок к подлинному откровению бытия, как в эпоху модерна, не чувствовал настолько свою экзистенциальную безосновность и не имел мужества решиться на такое, идя до конца. Жизнь и творчество Акутагавы Рюноскэ — не последнее тому подтверждение.