Жизнь, смешенная с злоключениями
О масонских литературных журналах в России XVIII века
В 1780-е русская журнальная жизнь смещается от сатиры к религиозно-нравственным поискам: вокруг Николая Новикова и московских масонских кружков складывается новая модель литературы, обращенной к самопознанию и воспитанию нравов. Как меняются язык и задачи журнала, когда разговор о человеке и обществе переходит в духовно-просветительское русло, а Петербург уступает Москве? Рассказывает Сергей Воробьев.
Это третий материал из цикла, тут можно прочитать первый и второй.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Невозможность использовать литературные журналы как площадку для общественной дискуссии в России середины XVIII века, о чем шла речь в предыдущей статье цикла, привела к тому, что пассионарная культурная энергия, направляемая писателями-классицистами на исправление общественных нравов, обратилась внутрь: внимание работников пера сосредоточилось на жизни духовной.
Журналы 1780-х годов по большей части посвящены религиозно-нравственным темам. Если сатира была болезненна для правительства, затрагивала пороки людей, занимающих в обществе не последнее место, и тем озлобляла элиту против писателей, то может быть духовная проповедь принесет больше плодов и смягчит нравы? Давайте выясним это!
Н. И. Новиков, который не раз пересматривал редакторскую политику своих журналов под давлением цензуры и к 1777 году (году смерти, между прочим, А. П. Сумарокова, крупнейшего поэта своего времени, создателя русского театра и первого частного журнала в стране) окончательно отказался от сатирического подхода к журналистике. Сатира, тесно связанная с социально-политической критикой, уступила место стремлению примирить требования сердца и ума с окружающей действительностью.
В это время в жизни Новикова происходят важные перемены, определяющие дальнейшую траекторию его культуртрегерской деятельности. Во-первых, он переезжает в Москву, подальше от политических дрязг и ближе к Московскому университету. И во-вторых, к концу 1770-х он становится активным участником масонского движения.
Духовная жизнь той эпохи распадалась на два взаимосвязанных, но противоположных направления: официальное православие, нередко превращавшееся государством в инструмент идеологического контроля, и неофициальную духовность, связанную с масонскими ложами. Уже к середине 1750-х годов членами лож становились многие молодые гвардейские офицеры — среди них и Сумароков, через которого к масонству примкнули поэты его круга. Однако вплоть до 1770-х годов российское масонство не имело сколько-нибудь серьезного характера. Масон и литератор И. П. Елагин вспоминал о ранних русских братьях: они «обращали внимание на обрядовую сторону, слегка благотворили, занимались пустыми спорами, оканчивавшимися иногда празднествами Вакха».
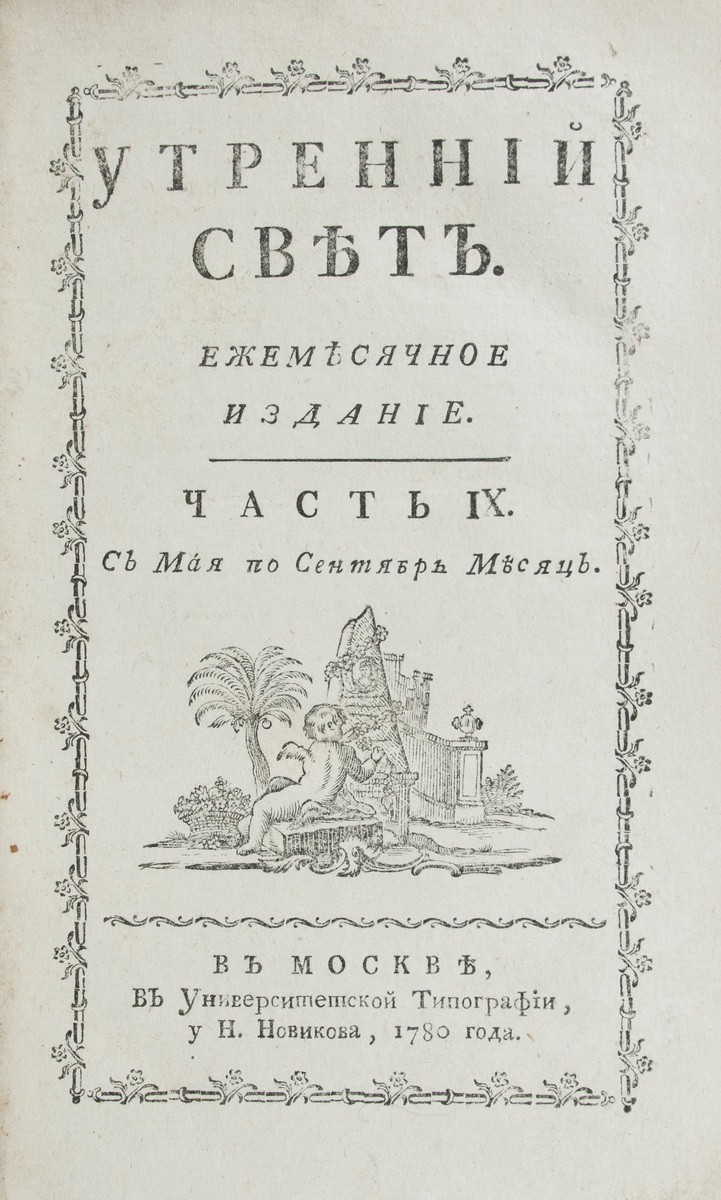
Первый философский журнал Новикова «Утренний свет» выходил на протяжении 1777–1780 гг., что для восемнадцативечных журналов необычно много — большинство из них редко существовали больше года или двух. Издание журнала Новиков начал еще до окончательного переезда в Москву в 1779-м и первые выпуски, за 1777-й и 1778-й, были отпечатаны в Петербурге. В Москве вместе с издателем в работе над журналом принимали участие А. М. Кутузов, В. И. Майков, М. Н. Муравьев, И. П. Тургенев, М. М. Херасков — сплошь масоны, связанные с Московским университетом.
Журнал Новикова заметно отличался от его прежних издательских начинаний: теперь в центре внимания оказались самопознание, стремление к нравственному совершенствованию и проблема бессмертия души. Однако, обращаясь к внутренней жизни человека, Новиков не замыкался в кругу масонских единомышленников — для него по-прежнему оставался важен просветительский смысл издательской деятельности. «Ничто полезнее, приятнее и наших трудов достойнее быть не может, как-то, что теснейшим союзом связано с человеком и предметом своим имеет добродетель, благоденствие и счастие его… Все мы ищем себя во всем… Итак, нет ничего для нас приятнее и прелестнее, как сами себе», — писал он своим подписчикам, приглашая их разделить масонские идеи.
Каждая книжка журнала открывалась разделом «Имена подписавшихся особ» и в целом была ориентирована не столько на широкий круг читателей, как это было в сатирических изданиях, сколько на формирование более тесного коммуникативного пространства. Подписчики писали издателю письма с замечаниями и пожеланиями, а он отвечал им со страниц журнала.
Как отмечает В. И. Сахаров, «литература, и в том числе художественная, стала главным путем распространения масонских идей в русском обществе, ибо ложи не могли и не должны были пропагандировать эти идеи публично». Журнал имел несколько литературно-философских рубрик. В разделе «Жизнь философов» публиковались биографии и извлечения из работ античных и европейских философов, таких как Сократ, Платон, Аристотель, Паскаль, Яков Беме, составлявших базис религиозно-нравственной философии. В литературном разделе преобладали набиравшие популярность произведения сентиментализма, преимущественно немецкого (Виланд, Геснер, Мозер, Геллерт). Порою там публиковались стихи, в которых заметна нравоучительная интонация, свойственная мягкой сатире журнала «Полезное увеселение» Хераскова:
Коль счастлив хочешь быть, ты Богу подражай;
Будь кроток, милосерд, являйся терпеливым,
Несчастным другом будь, но другом справедливым;
Художества люби, науки почитай,
Ко всем будь милостив и бедного питай.
Издатель писал: «Ласкалися мы изданием такового журнала, как наш, искоренить и опровергнуть вкравшиеся правила Вольномыслия, которого следствия как для самых зараженных оным, так и для общества весьма пагубны». Однако все на свете имеет свой срок: в 1781 году журнал был закрыт и преобразован в «Московское ежемесячное издание». Хотя в целом «Ежемесячное издание» продолжало линию «Утреннего света» — в нем по-прежнему преобладали тексты морально-этического и религиозного характера, распространялись масонские идеи, публиковались авторы того же круга, — журнал отчасти осовременился. Редакция словно вновь пыталась нащупать путь к политической актуальности, подходя к ней через идею масонского просвещения. В одной из первых книжек журнала говорилось: «процветание государства, благополучие народа зависят неотменно от доброты нравов, а доброта нравов — неотменно от воспитания». Однако просуществовал журнал недолго: его выпуск продолжался лишь с января по декабрь 1781 года.
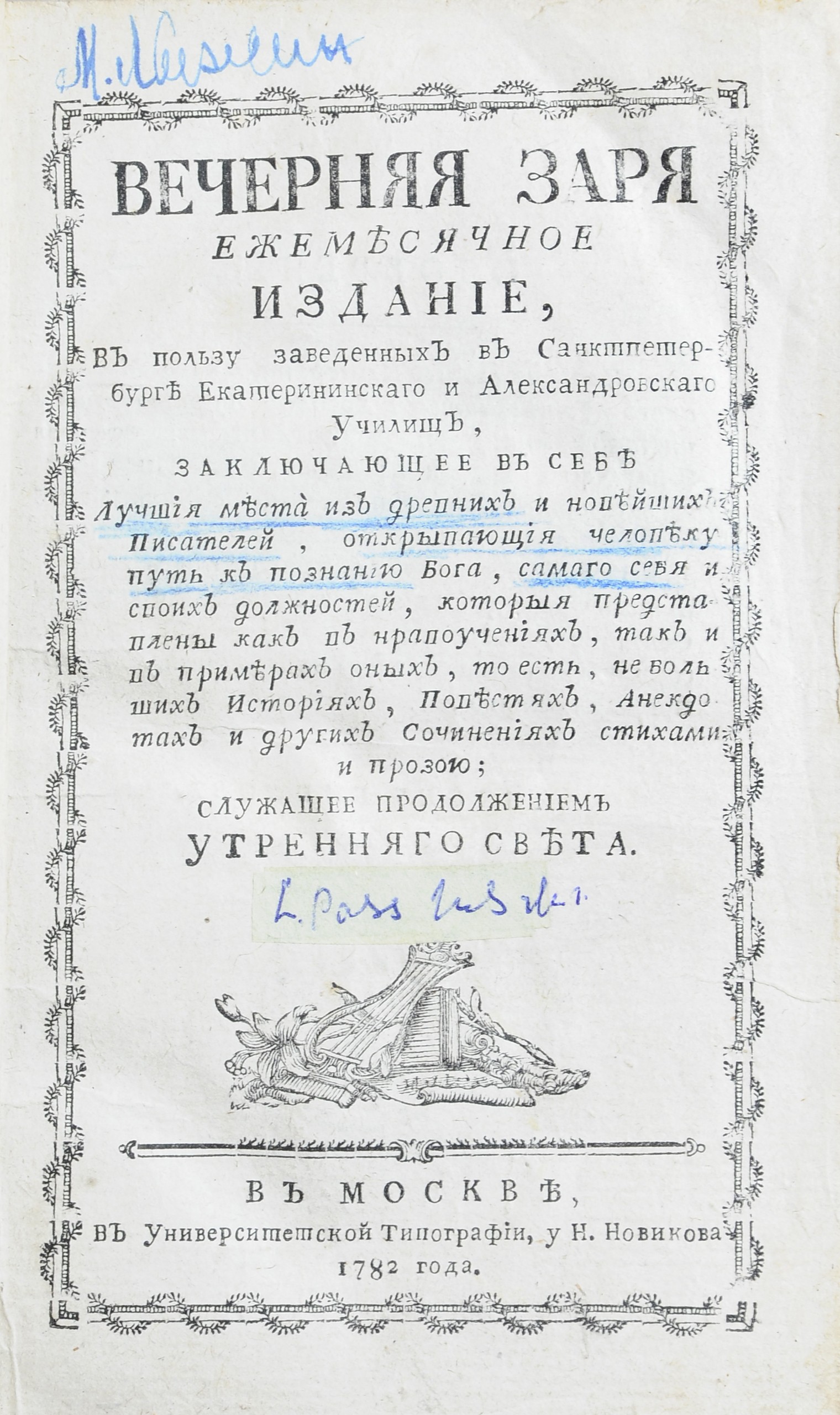
Другими масонским просветительскими журналами, над которыми работал Новиков, были «Вечерняя заря» (1782) и «Покоящийся трудолюбец» (1784–1785).
Уже из названия журнала «Вечерняя заря» видно возращения Новикова к идеям 1777–1780 гг., но на другом витке. На титульном листе журнала читателям обещались «лучшие места из древних и новейших писателей, открывающие человеку путь к познанию бога, самого себя и своих должностей». Редактировал журнал профессор Московского университета и масон И. Г. Шварц, идеологически близкий к протестантизму и проводивший эту линию в журнале.
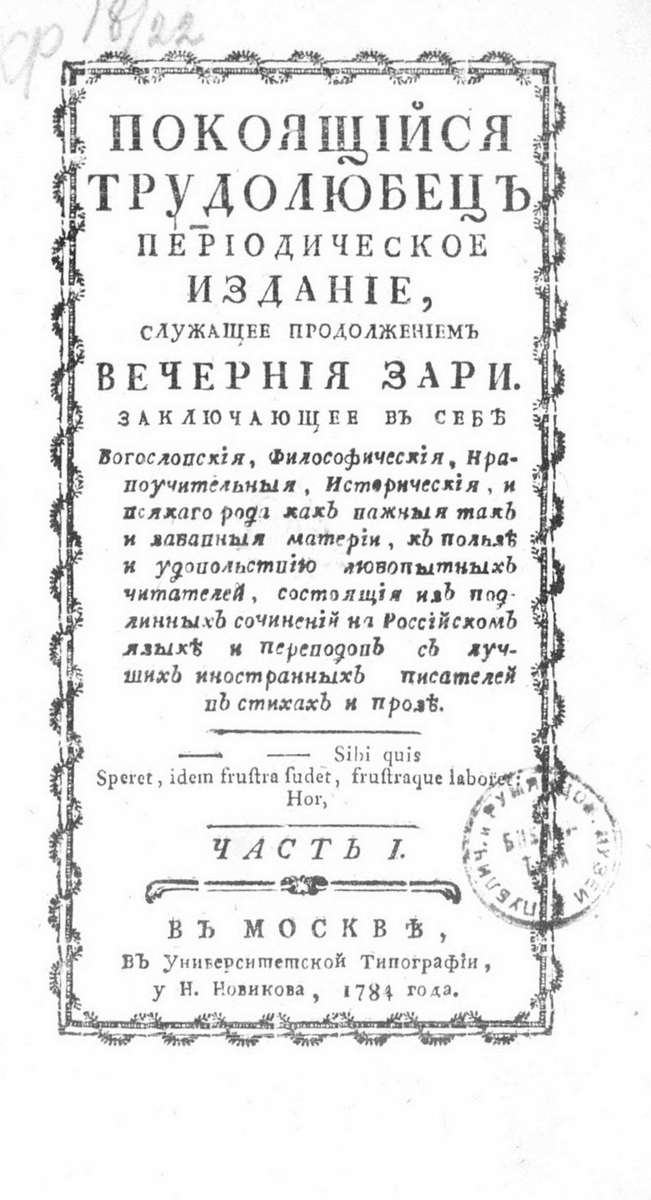
Последовавший за ним «Покоящийся трудолюбец» заметно отходил от строгой религиозно-нравственной дидактики и местами приобретал почти развлекательный характер. Круг его авторов оказался значительно моложе: среди сотрудников были студенты Московского университета — М. А. Антонский, В. С. Подшивалов, И. Ф. Сафонович, П. А. Сохацкий, М. А. Петровский, — а также начинающие поэты: С. Бобров, С. Тучков, М. Доброгорский, М. Багрянский, княжны Е. и Т. Голицыны. Мудрость здесь нередко подавалась в игровой форме — например, в виде загадок, одна из которых представляла собой акростих:
Привычка мать моя, она меня рождает,
А навык мне отец, он кормит и питает.
Мой долг есть сохранять, они что вверят мне,
Я скрытно нахожусь, невидимо извне.
Ты сам читатель мой, меня в себе имеешь.
Начальные слова прочтя уразумеешь.
Параллельно с выпуском масонских журналов Новиков работал и над менее духовно ангажированными изданиями. Примером может служить «Городская и деревенская библиотека, или Забавы и удовольствия разума и сердца в праздное время», нерегулярно издававшаяся в период 1782–1786 гг. как приложение к газете «Московские ведомости». Основное содержание книжек сборника занимали переводные приключенческие и биографические повести, рассказывающие о деяниях полководцев, особ светских и церковных.
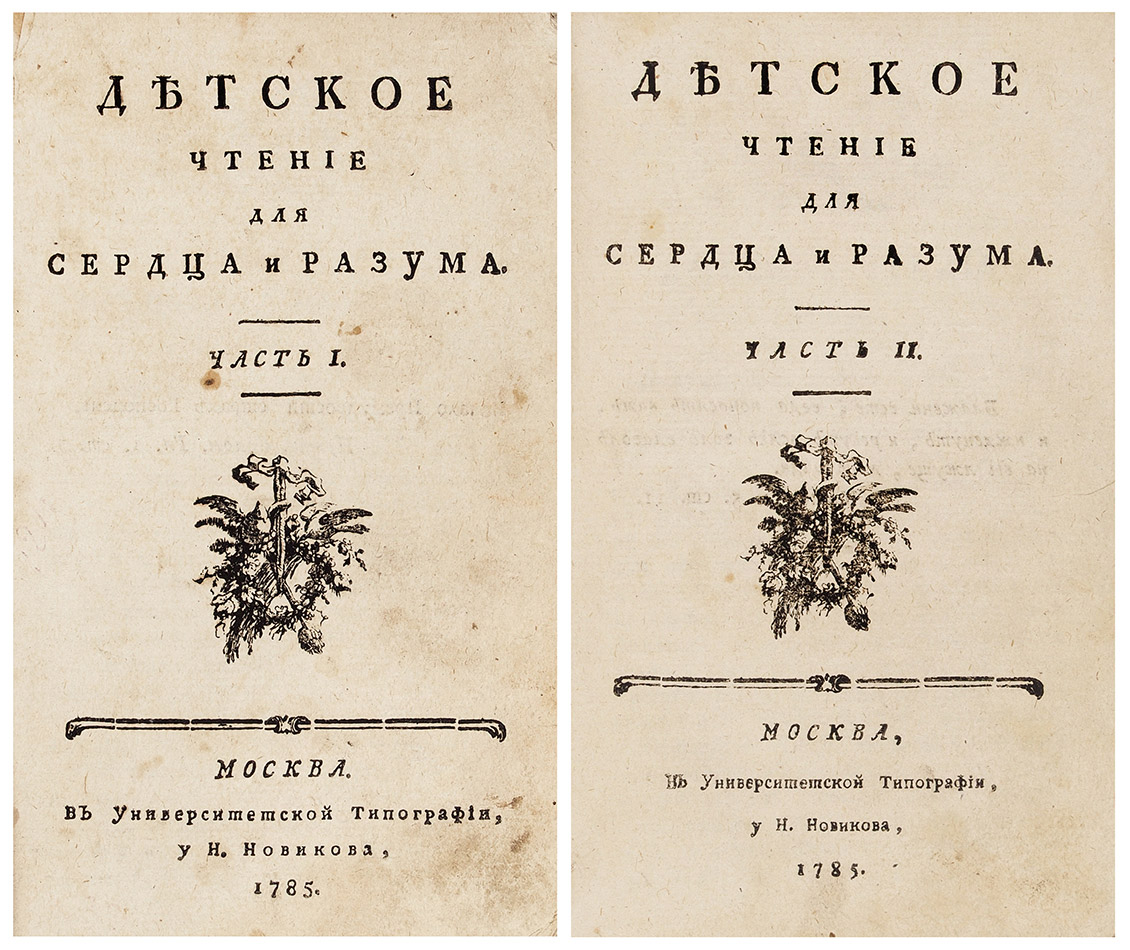
Интересна история первого детского журнала в России с благожелательным названием «Детское чтение для сердца и разума» (1785–1789 гг.). Так же как и предыдущее рассмотренное нами издание, журнал издавался в типографии Московского университета по инициативе Новикова в качестве приложения к газете «Московские ведомости». Журнал не имел аналогов, пользовался большой популярностью и два раза переиздавался — в 1799–1804 и в 1819 гг., служа досугом не одному поколению маленьких читателей. «В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир…» — отзывался о нем известный славянофил С. Т. Аксаков.
В журнале публиковались произведения западноевропейской литературы, отобранные с учетом детской аудитории. Носили они, конечно, нравоучительный характер. Печатались рассказы о жизни великих людей, занимательные приключения, пастушеские повести, басни, сказки, стихи. Но публиковались и прозаические сочинения, знакомившие детей с естественными науками и историей: статьи «О стихиях», «О системе мира», «О солнце», «О земле», «Анекдот из древнеримской истории», «О новой планете», «О кометах», «О воде», «О слоне», «О льве» и т. д.
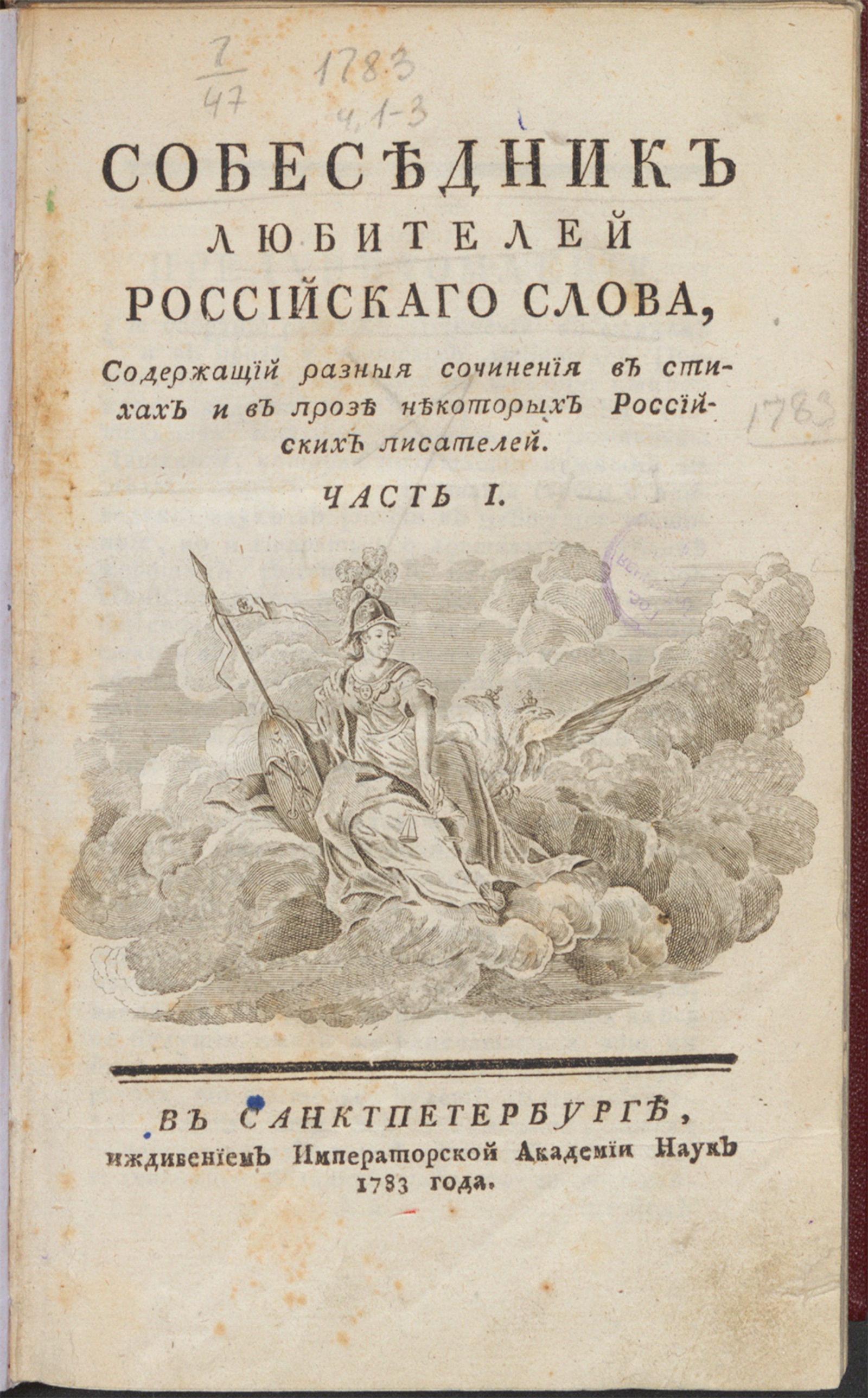
Журналы, издававшиеся в это время в Петербурге, были совсем иными, чем рассмотренные нами выше масонские издания. Возглавлявшая Петербургскую академию наук княгиня Е. Р. Дашкова, близкая подруга императрицы, стала инициатором издания, имевшего длинное название «Собеседник любителей российского слова, содержащий разные сочинения в стихах и в прозе некоторых российских писателей». В издании принимали участие такие крупные поэты, как Державин, Херасков, Капнист, Фонвизин, Богданович, Княжнин.
В целом журнал носил более классический литературный облик: на его страницах публиковались стихотворные сочинения, оды, размышления о филологии, а также «Записки о русской истории» императрицы Екатерины Алексеевны и ее «Были и небылицы». За шестнадцать номеров, вышедших в 1783-1784 годах, в журнале появлялись исключительно произведения российских авторов — иностранные тексты и переводы отсутствовали полностью. Идеологически издание выдерживалось в культурно-патриотическом ключе: «Что же касается до преимуществ Российского языка, то, не обинуясь, утвердиться можно, что он изобилием, красотою и важностью превосходит все новейшие языки».
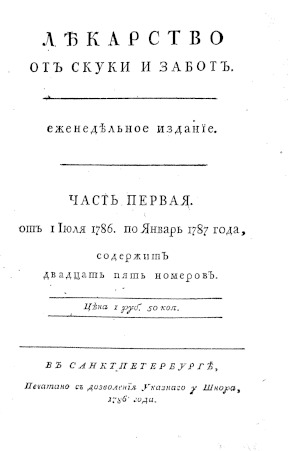
Попыткой создать массовое популярное издание был журнал «Лекарство от скуки и забот», выходивший в Санкт-Петербурге на протяжении 1786-1787 гг. под редакцией Ф. Ос. Туманского и Ип. Ф. Богдановича. Журнал ставил своей задачей давать чтение, «предметом которого должно иметь утверждение добродетели и распространение полезных знаний». Распространять полезные знание предполагалось через десять разделов, представленных в каждой книжке журнала:
Нравоучения
Увеселения
Хозяйство и домостроительство
Воспитание и здоровье
Редкости земного шара
Тяжбы
Отличные решения и приговоры
Моды
Деяния добродетельных мужей
Загадки и прочее
Закрылся журнал из-за недостатка читательского спроса…
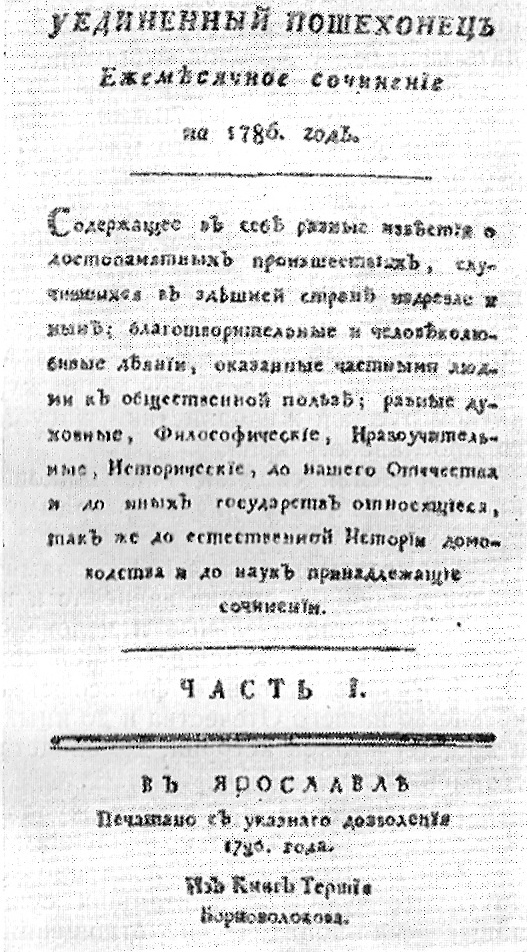
В 1786 году в Ярославле произошло событие, которое современники едва ли оценили по достоинству: появился первый провинциальный журнал в России. Называлось это диковинное издание «Уединенный пошехонец» — название, которое сегодня звучит почти как литературная провокация, но тогда оно точно отражало философию издателей.
За скромным провинциальным проектом стояли вполне серьезные люди: издателями были Н. Ф. Уваров, А. Н. Хомутов и Н. И. Коковцев, редактором — В. Д. Санковский, но главным вдохновителем и покровителем журнала был ярославский генерал-губернатор А. П. Мельгунов. Когда в 1787 году журнал сменил название на более нейтральное «Ежемесячное сочинение», это мало что изменило: смерть Мельгунова положила конец изданию. Тираж едва превышал сотню экземпляров, распространялся журнал бесплатно или по благотворительной подписке среди местного дворянства — коммерческий успех явно не входил в число приоритетов.
«Уединенный пошехонец» был органом масонского кружка Мельгунова, и это определило всю его идеологию. Само название журнала имело двойное дно: с одной стороны, оно отсылало к идее духовного уединения как пути к самосовершенствованию, с другой — намекало, по легенде, на подмосковную усадьбу Суханово А. П. Мельгунова, куда тот удалялся с Санковским для работы над изданием. Впрочем, даже в XVIII веке образованному человеку нужно было немалое мужество, чтобы назвать себя «пошехонцем».
Авторами журнала были учителя М. В. Розин и И. Ф. Фортунатов, семинарист В. Васильевский, архиепископ Арсений (Верещагин), сами Санковские — отец и сын. Многие статьи печатались анонимно, что создавало атмосферу интеллектуального содружества, где важны идеи, а не имена.
На страницах журнала разворачивалась последовательная социально-философская программа. В ее основе лежал просвещенно-монархический идеал, но не казенный, а пропущенный через масонскую призму нравственного самосовершенствования. Екатерину II почтительно именовали просвещенной государыней, но тут же давали советы местным помещикам — разумно устраивать отношения с крестьянами. Звучали и весьма смелые для времени мысли: принудительный труд «пленников или преступников» на земле оскорбляет ее саму и мешает плодородию. Критиковались моральные пороки дворянства — лень, расточительность, пренебрежение крепостными. Добродетель же провозглашалась не сословной привилегией, а достоянием всех «высоких душ».
Характерно, что призывы к осознанию общественного долга постоянно перебивались в журнале меланхолическими размышлениями о бренности бытия, скоротечности жизни, обманчивости мира. Авторы предлагали читателям отрешиться от светской суеты и в «мирном уединении» искать покой — в общении с природой, в труде на земле, в размышлениях и науках. Человеку приличествует «жизнь смешенная с злоключениями», которая учит «познавать самого себя». А личности, не понятой обществом, достойно уйти «в пустыни и дебри», к близким людям, способным к благодарности и любви.
Перед читателем выстраивается образ идеальной личности в представлении авторов журнала: человека, прошедшего через исторические испытания, не утратившего просветительского оптимизма, но все чаще утверждающего его в стоическом ключе — «вопреки всему». Это герой, духовно удаляющийся из «вероломного общества» в пространство братства масонской ложи и в умиротворяющую гармонию природы. Для него самовоспитание — не отвлеченный идеал, а путь «упорного и напряженного переживания и осмысления собственного существования».
Впрочем, журнал не ограничивался философией. В «Уединенном пошехонце» публиковались «Сведения о Ярославском наместничестве» — историко-географические очерки о городах и уездах. Это была часть большого проекта по составлению топографического описания края. Правда, в «Ежемесячном сочинении» краеведческих материалов стало заметно меньше — возможно, редакция решила сосредоточиться на «высоких материях».
Судьба журнала сложилась печально: до наших дней он дошел лишь в считаных экземплярах и теперь представляет собой библиографическую редкость. В конце XIX века Л. Н. Трефолев безуспешно пытался переиздать полный комплект. Тем не менее значение «Уединенного пошехонца» выходит далеко за рамки тиража. Это был первый опыт провинциальной журналистики — попытка создать интеллектуальное пространство вне столиц, показать, что серьезная мысль возможна и в «глубинке». Если сегодня провинциальные издания кажутся естественной частью медиаландшафта, то в 1786 году появление журнала в Ярославле стало актом культурного дерзновения, заявкой на независимость мысли от географии.
Таковы пути русской журналистики, таково было ее существование в 1780-е годы — время, когда после бурной сатирической активности прошлых десятилетий культурное движение сместилось от столичного Петербурга к древней Москве, от общественной критики к идеям духовного просвещения. Разумеется, на этом история русской журналистики не завершилась: в 1790-е годы появились журналы Карамзина и Крылова, сыгравшие важнейшую роль в дальнейшем развитии отечественной культуры. Но это уже совсем другая история.