Программа национального дерева
Беседа о книге «Русская березка: очерки культурной истории одного национального символа»
Рита Томас
Как береза стала символом России, почему именно этот образ пережил сталинскую эпоху и что за рубежом думают о его «русскости»? Об этом на прошедшем в Переделкине фестивале «Явление НЛО» издатель «Горького» Борис Куприянов поговорил с Игорем и Натальей Нарскими, авторами книги «Русская березка: очерки культурной истории одного национального символа», и историком Александром Фокиным.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Игорь Нарский, Наталья Нарская. Русская березка: очерки культурной истории одного национального символа. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание, фрагмент
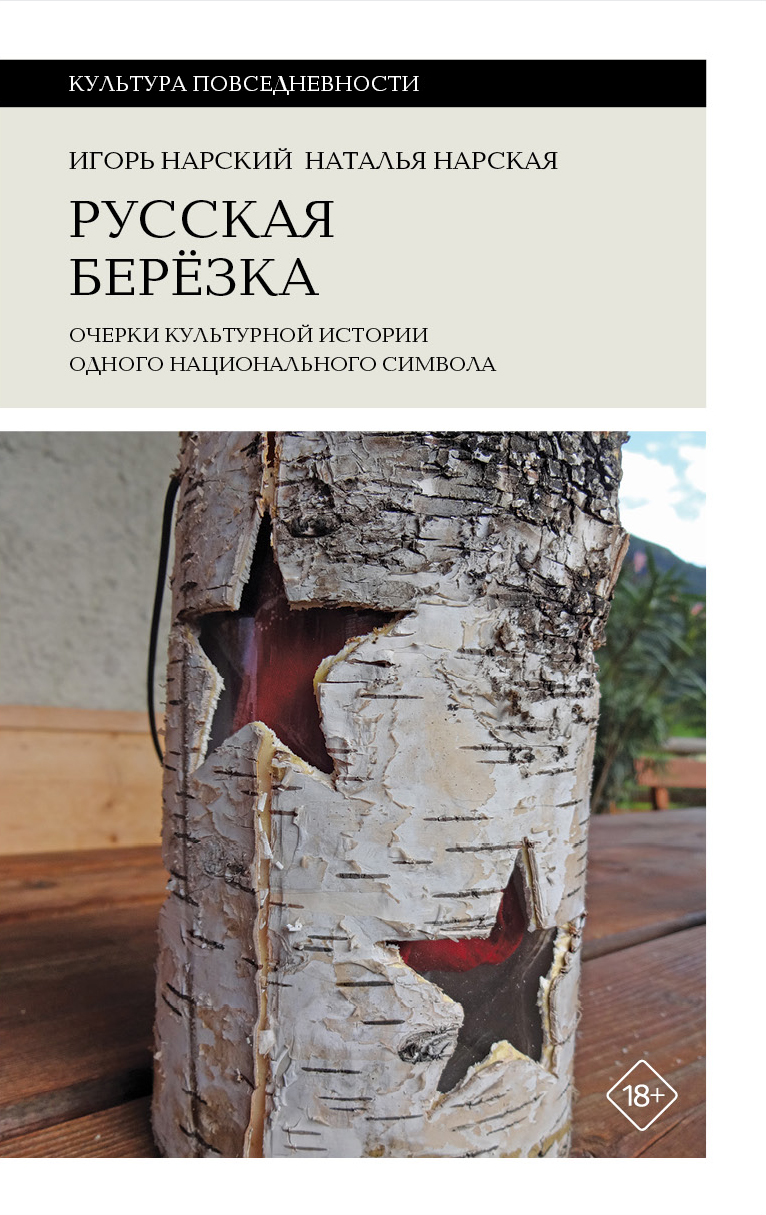
Борис Куприянов: Я начну нашу беседу с упоминания одного своего очень хорошего знакомого — доктора наук, биолога, таксатора, специалиста по лесу. Его зовут Владимир Седых, он живет в Новосибирске и всю жизнь занимается лесом. Однажды он мне рассказывал, что береза действительно сыграла в русской истории очень большую роль. Во-первых, это дрова, топить которыми экономнее, чем каким угодно сосновым деревом. Во-вторых, деготь — это естественная смазка для спиц колес телеги. Вещь совершенно необходимая. И именно деготь позволял поселенцам, по словам Седых, доехать от Москвы до Тихого океана. И в-третьих, конечно, береста. Надо сказать, все эти три аргумента неочевидны. Когда мы говорим, что береза — русский символ, мы совершенно не задумываемся о ее энергетической ценности или о том, как производится деготь, и не вспоминаем Великий Новгород с его раскопками. Но символ родился, и родился он не из этих вещей, а как-то по-другому.
Книга, о которой мы сегодня поговорим, продолжает замечательную традицию серии «Культура повседневности», каждая книга которой ставит под сомнение вроде бы очевидные вещи. Итак, когда береза стала символизировать Россию?
Игорь Нарский: Для этого есть много причин, но сейчас я хочу сказать о другом. Это вообще очень долгая история — история вокруг самой этой книги. Она настолько долгая, что я даже ошибся: написал в предисловии, что ей двадцать пять лет, а на самом деле — тридцать пять. Но неважно.
Важно то, что у меня были сомнения в «вечности» этого символа как русского. Я много где бывал — и там тоже росли березы, в разных странах. Но я был абсолютно уверен, что найду какие-то документы, руководящие или направляющие, которые объяснят, почему, например, женский ансамбль танца, создававшийся в 1948 году, назвали «Березка». Или почему систему магазинов для торговли с иностранцами в 1961 году тоже назвали «Березка». Этих документов я не нашел — и думаю, что их, скорее всего, нет, хотя часть документов по валютной сети до сих пор закрыта.
Думаю, во второй половине XX века это сложилось само собой. Не по чьей-то воле или указке, а под воздействием ряда событий. Главным из них, конечно, стала Великая Отечественная война. Но не только она. Об этом мы сегодня и поговорим.
Борис Куприянов: Наталья Васильевна, у вас же другое мнение?
Наталья Нарская: Контраргументы у меня рождались всякий раз, когда Игорь Владимирович спрашивал: «Почему же она русская?» В интернет-пространстве очень много картин, стихов — я все это активно собирала и укреплялась во мнении: береза — это прежде крестьянская культура, язычество, русалки, затем — православная культура, украшение храма. Это и то, что вы назвали: письменная грамота, деготь, дрова, лыко. Я находила новый материал и бежала как ребенок. Показывала: вот, смотри, еще вот тут береза, оказывается. Игорь отвечал: «Замечательный пейзаж, но почему он русский?»
Когда проект уже был в работе, стало понятно, что наши позиции разные, но в процессе сбора информации все-таки шло сближение, и мы это ощутили потом. Наши первые читатели получили книгу в виде двенадцати диалогов. Отклики были противоположными. Одни говорили: «Какая замечательная форма, новая, совсем не избитая». Но были и противники, которые указывали: «Диалоговая форма перестает быть в прямом смысле диалогами до конца». То есть наши позиции слишком сближались. В итоге мы отказались от этой формы.
Игорь Нарский: Если совсем в двух словах, то Наталья больше настаивала на преемственности. То есть это длинная история — от крестьян, от язычества и до сегодняшнего дня. А я настаивал скорее на разрыве: что все это прервалось, и нынешняя якобы «крестьянская» позиция уже не имеет ничего общего с крестьянской позицией XVI века — крестьяне Есенина своим поэтом не признавали, это задокументированный факт.
Борис Куприянов: Тогда обратимся к концу XIX — началу XX века. Как и для чего береза возникает в культурной жизни того времени?
Игорь Нарский: Это одна из центральных проблем в книге — вопрос о том, когда формируются нации и когда формируются национальные движения, национальные идеи. XIX век — это уже понятая русская идея, тут все ясно. Разговоры славянофилов и западников и их наследников — все об этом.
Но эти вопросы спорные. Вот историк Владимир Бровкин, например, считает, что русская нация возникла только благодаря Владимиру Путину. А Фритьоф Беньямин Шенк в книге «Александр Невский в русской культурной памяти» писал, что русская нация появляется только после распада Советского Союза, в 1990-е годы. Андреас Капеллер писал, что русская нация сформировалась в 1905 году. Давид Бранденбергер связывает это с национал-большевизмом 1930-х. И так далее — очень много разных мнений, и вот вокруг всего этого и строилось обсуждение.
Один из мощных факторов формирования русской идеи, превращения ее в массовое явление — канун первой революции, 1880–1890-е годы. Именно тогда все начинается: например, Н. Селезнев пишет повесть «Белая береза». Ее прочитал Лев Толстой и отметил как «недурную» или «посредственную» (для него это почти синонимы).

Александр Фокин: Я бы дополнил важный момент. Если мы вернемся, условно говоря, к Пьеру Нора и его концепции «мест памяти», то березу можно рассматривать именно как такое место памяти. Но она возникает только тогда, когда становится символом, когда это исходит уже не из повседневной жизни, а из необходимости восполнить культурный пробел.
Если ты живешь в березовом лесу, для тебя береза не будет символом — ты сталкиваешься с ней ежедневно. Символом она становится только тогда, когда исчезает из обыденности и поднимается на уровень национального образа.
Борис Куприянов: Вряд ли народники в свое время восхищались березой — как, впрочем, и их оппоненты. Береза возникает как символ именно тогда, когда начинается эстетический поиск «русского» — в период между первой и второй революцией. Тогда начинается эстетизация «русского», и вот тут появляется береза. Думаю, дело в ее графичности, в простоте изображения.
Игорь Нарский: Да, это правда. Эстетически береза — очень интересный объект. Эксперименты с ней начинаются еще у французских импрессионистов: у них масса берез — это поиск, попытка зафиксировать свет. И тот же мотив у Левитана: он ведь не «русские березы» писал, а использовал березу как повод для эксперимента.
Наталья Нарская: Про красоту стоит сказать отдельно. Мы уже и согласились друг с другом, и смеемся над этим спором, но все равно ложка дегтя остается. Красота березы — это белый ствол, это рощи. Это был один из первых аргументов, которые я приводила. Я говорила: вот осенью посмотришь — это же очки, это стиль, культурное ощущение. — «Ну как же так? Что значит „красиво“?» — возражал Игорь.
А я отвечала: ну хорошо, попробуй сделать символом красоты хвойные деревья — ель или сосну. Они и зимой, и летом одного цвета. А береза? Весной она набирает сочную зелень — это рождение, зарождение, символ красоты, женственности, нежности. Осенью — наоборот: увядание, тоска.
Вот это, на самом деле, тоже важно. Мы обнаружили, что именно женщины продвигают красоту березы — в женских журналах, в образах. Этот женский мотив постоянно присутствует. Женщина, кажется, видит в березе больше красоты, чем мужчина.
Борис Куприянов: Есенин и многие другие писали о березе, но потом она исчезает как символ. В фильмах 1920–1930-х годов я не помню, чтобы была ярко выражена красота березовой рощи. Ни в «Чапаеве», ни в «Александре Невском» ее нет. Почему вы предполагаете, что береза вновь возникает лишь во время Великой Отечественной войны?
Игорь Нарский: Ну во-первых, появляется масса стихов фронтовых поэтов и так называемая лейтенантская проза. Но главным образом прямо во время самой войны береза вдруг всплывает, ее становится очень много. И для этого есть много оснований.
Формируется новый, очень плодотворный и перспективный для будущего образ фронтовой березки. Это березка, которая замещает мать, жену, невесту; которая провожает и ждет назад; которая становится пограничным пунктом на поле боя. У Шолохова, у Бубеннова фронтовая березка заслоняет собой бойца и спасает его от смерти.
Из этого образа потом выросло многое. Если в 1930-е береза в прессе фигурировала скорее с отрицательными коннотациями, то в конце 1940-х березки из средней полосы специально везут, например, в Третьяковский парк. Это уже большой символический шаг.
То есть это связано с новым образом Родины — большой или малой. Родины, которая в смертельной опасности, и ее нужно защитить от поругания врага. И которую мужчины отстояли во время войны. Береза становится символом не только Родины, но и своеобразным символом Победы.
Борис Куприянов: Мы же понимаем, что любую подобную кампанию кто-то или что-то должно запустить. Был какой-то толчок или как тогда объяснить эту культурную мутацию? Откуда вдруг участники войны начинают писать о березке? Это ведь не один автор, а сразу многие. И еще: ведь в Первую мировую такого не было, хотя солдаты находились примерно на той же территории и в схожей культурной ситуации.
Игорь Нарский: Вот на этот вопрос у меня ответа нет. Но есть хороший пример — знаменитое стихотворение Симонова «Родина». В первоначальной редакции 1940 года там еще не «три березы», а «бор сосновый», который «никому нельзя отдать». Но уже в следующем году Симонов это стихотворение переписывает.
Мне кажется, к этому моменту много всего накопилось. Бианки, Пришвин — их ведь издавали еще в 1920–1930-е, несмотря на их отношение к советской власти. Но дети на этом росли. Береза присутствовала, но в «программных текстах» о Родине березы нет. Там весь героизм связан с покорением природы, с индустриализацией, а не с деревьями. И вот важный момент. Береза становится деревом крестьянским только после того, как крестьянскую деревню распахали, перемололи, фактически уничтожили. До этого была просто береза дровяная, ничего особенного. А уже после перемалывания крестьянства появляется феномен, который Мишель де Серто называл «красота мертвого». Вот теперь березу можно было принять в советский канон.
Но это все вещи, которые просто витают в воздухе. Я не нашел никаких документов, которые прямо объясняли бы этот сдвиг.
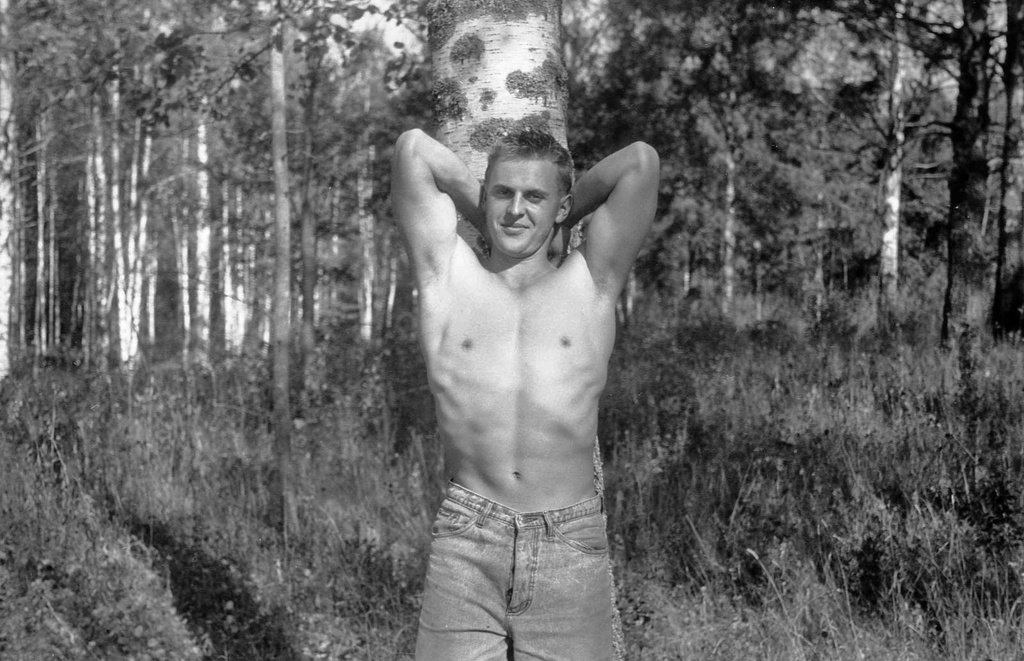
Борис Куприянов: Далеко не все идеологические символы пережили военное время. Почему именно березе так повезло и страна выбрала ее своим символом уже после смерти Сталина?
Игорь Нарский: Вот тут очень важный момент. В середине 1960-х многое происходит. Начинается консервативный поворот: от пропаганды «светлого будущего» переключаются к пропаганде «светлого прошлого». Война становится главным мифом, хотя революция 1917 года как миф еще не исчезает. Это раз.
Во-вторых, народ, конечно, был измучен всеми экспериментами первой половины ХХ века. Для общества это выглядело как попытка отдохнуть от передряг. Национальный подъем опирался на память о совсем недавней победе, и власть стремилась эту память всячески инструментализировать — чем дальше, тем сильнее.
Совпало это еще и с 70-летием со дня рождения Есенина. Еще раньше был 1951 год — открытие берестяных грамот. В 1965-м — создание Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Примерно в то же время начинается «раскрутка» Золотого кольца. Это был совершенно децентрализованный процесс. Для меня это стало неожиданностью, потому что я ждал какой-то «теории заговора» — а ее не оказалось. Береза возникла как отдельный символ «русского национального» самосознания, как репрезентация, как знак «русскости».
И я сам не знаю, русскость эта национальная, имперская или еще какая? Вот пример: Владимир Высоцкий. Известно, что до того, как режиссер Параджанов подарил ему турецкий орден, Высоцкий носил на груди серебряный рубль с профилем Николая II. Это проявление национализма или чего-то иного? Я не думаю, что Высоцкий был националистом. Скорее это был жест, близкий к тому, как интеллигенты в шестидесятые собирали самовары или иконы. Что-то вроде протеста — не открытого, но ощутимого.
Борис Куприянов: Береза — образ достаточно безопасный, близкий каждому. Но потом он вдруг становится прямо государственным-государственным. Почему?
Игорь Нарский: Я бы поспорил, что береза становится именно государственным, советским. Потому что, например, магазины валютной торговли в разных республиках назывались по-разному. В Прибалтике — «Дзинтарс» («Янтарь»), в Киеве — «Каштан», в Азербайджане — «Чинар». То есть береза все-таки символ именно русский.
Другое дело, что за границей «русский» и «советский» воспринимались как одно и то же. Помните стихи Евтушенко «Хотят ли русские войны» — это ведь не про «русских», а про «советских». Просто за рубежом не знали разницы, не понимали, что такое «советские».
Реплика из зала: Но мы знаем, что за границей береза не воспринимается чаще всего как русское дерево.
Игорь Нарский: Она сейчас не воспринимается как русское дерево, а в 1950–1960-е ансамбль «Березка» катался по всему миру и продвигал представления о Советском Союзе «симпатичном», противоречащем стереотипам холодной войны: молодые девушки веселые, задорные, красивые. Фанатов у «Березки» было невероятное количество. Когда читаешь письма того времени или вырезки из газет в архиве ансамбля, просто диву даешься: насколько все признавали, что березка — русское дерево, русский феномен.
Александр Фокин: А у нас же есть контрольная группа: большое количество русских эмигрантов, которые оказались за границей в разные периоды, и их сложно заподозрить в том, что они находились под влиянием советского проекта. Они как к березке относились? Для них она становилась символом ностальгии.
Игорь Нарский: Знаете, был такой фильм 1979 года «Поэма о крыльях». Там умирающий Рахманинов слушает по радио исполнение своего концерта из зала Чайковского. К нему приезжает Сикорский поздравить с днем рождения. И вот Сикорский выходит и видит засохшую березу около виллы Рахманинова.
По фильму Рахманинов рассказывает, что посадил дома березку: сначала она вымахала, а потом засохла полностью. История эта частично вымышленная, потому что в реальности Рахманинов действительно высаживал березы у своей виллы в Швейцарии, у подножия Пилатуса, и они не засохли. Он делал это по образцу Чехова, который пытался высаживать березы в Ялте — там они совсем не прижились. То есть первое поколение эмигрантов привезло с собой не столько материальные вещи, сколько картинку в голове, где береза занимает свое место. В 1990-е публиковались сборники популярных песен — там тоже звучала береза. В этом смысле Наталья права: символ продолжает работать.
Но в значительной степени это первое впечатление подпитывалось и верой. Первое поколение эмигрантов во многом были люди верующие, праздновавшие Троицу и украшавшие храмы березами, — об этом есть воспоминания. А потом эта эмигрантская ностальгия в СССР была собрана и «перепридумана» — как образ невозможности русского человека жить вдали от Родины, не видя берез. И поколение советской эмиграции уже несло с собой не крестьянский опыт, а социализацию в советских ресторанах 1960-х, где начинали петь песни на стихи Есенина.

Борис Куприянов: А есть ли у нас какие-то прямые конкуренты, которые пытаются оспорить «русскость» березы? Есть ли такой культ в других странах?
Наталья Нарская: Наверное, в Финляндии, да? Когда мы путешествовали, то с удивлением и восторгом видели березовые аллеи. И это были не какие-нибудь «частные» березки из песен — те самые эмигрантские, чахлые, маленькие, страдающие на чужбине. Нет, там они выглядели мощно, росли здоровыми аллеями.
Хотя, конечно, культивируется и образ эмигрантской березки: слабой, хрупкой, почти кустарниковой. Сортов там невероятное количество. Но, по нашим представлениям, береза должна быть высокой и сильной. И вот в Финляндии мы видели такие аллеи — с мощными стволами, которые прекрасно себя чувствуют. Мы говорили: «Посмотри, как здорово!» Был и другой эпизод: мы вернулись домой, стояли на остановке, я фотографировала. Рядом росла гигантская береза, а рядом — пальма с бананами. Вот это было поразительно.
Еще Игорь напомнил: в Германии мы часто видели витрины магазинов, украшенные березовыми стволами — спортивная одежда, молодежная. А в Австрии у нас был удивительный опыт. В горах мы спустились в поле, где трава по пояс, и там стояла одинокая береза с рядом поставленной скамьей. И образ был совершенно узнаваемый, почти родной. А еще в Австрии, кажется в Халле, мы гуляли летом по старому городу. Окна были распахнуты, и в ресторане все помещение оказалось уставлено березовыми стволами — не колоннами, а именно как роща. Стволы упирались в потолок и пол, между ними приходилось лавировать. И вот эти «милосердные красавицы русские» смотрели оттуда на улицу. Мы даже не фотографировали — само впечатление было очень сильным.
А еще вспоминаю личное. Я училась тогда в начальных классах, и мой папа подглядел в журнале «Моя жизнь» идею и реализовал ее. У нас в Челябинске в большом бору он нашел ствол березы — не очень мощный, но большой. Сначала он положил его в коридоре, как было рекомендовано, а потом установил в комнате, закрепил между паркетом и потолком и сделал из него подставку для цветов. И эта береза жила у нас очень долго.
Игорь Нарский: Береза — одна из самых распространенных фамилий в Латвии. И там тоже она считается «своей». Очень похожая ситуация и в других местах: березу многие воспринимают как «свою», и потом удивляются, с чего вдруг она стала «русской».
Борис Куприянов: Мифы создаются, они не возникают сами по себе — их кто-то формирует. Можно ли на примере истории культурного мифа о березе разглядеть общие тенденции, общие признаки возникновения культурных мифов и символов?
Игорь Нарский: Пожалуй, да. Мы воспользовались в качестве теоретического каркаса размышлениями Ролана Барта о культуре мифа, о природе мифа. Он пишет о том, что дерево — очень удачный объект для мифологизации, потому что миф — это усилие (или результат усилия) по превращению рукотворного в природное, исторического — в вечное.
Это удобный инструмент для легитимации власти, для натурализации самых разных явлений — политики, экономики, демократии, консерватизма, чего угодно. Миф указывает на то, что «так было всегда, было всегда, было всегда». И пример с березой работает именно так. Мы не нашли и не найдем никаких партийных документов по этому поводу именно потому, что «программа национального дерева» в этом и состоит: ничего не нужно изобретать, оно «всегда русское».
Александр Фокин: У вас много книг, и в последних работах появляется довольно большое количество личного опыта. В этой книге тоже интересная форма — именно очерки. Это не главы, не параграфы, а очерки. Как вы считаете: можно ли легализовать эту субъективность — то, что я иногда называю «лирическим», — в языке и в письме? Почему вы все-таки выбрали очерки, а не привычные главы?
Игорь Нарский: Техническая проблема состояла в том, чтобы диалоги превратить в живой текст, не идеологический. И в этом смысле жанрово ближе всего к диалогам оказались именно очерки: они позволили превратить диалогическую форму в монологическую, сохранив при этом дыхание разговора.
Это техническая сторона. Практическая и принципиальная стороны — в другом. Начиная с программного эссе об антропологизации авторства и критике «лирической историографии» в 115-м номере «НЛО» я продвигаю идею, в которой я, конечно, не одинок. Многие авторы даже присылают свои книги с подписью — «Еще один сторонник лирической историографии». Суть идеи в том, что единственная объективность, которую невозможно достичь, — это та, которой учат со школьной скамьи и в университетах: взгляд «из ниоткуда», божественное всевидение. Этого достичь нельзя. Хотелось бы, но невозможно.
Есть другие формы объективности — достигаемые через контроль за собственной рефлексией: что делает исследователь, почему он выбирает один взгляд, а не другой, почему опирается на эти аргументы, а не на иные. Как только историк начинает от этого отстраняться и говорить, что он «следует принципу объективности», он обманывает и себя, и читателя. Потому что это божественное всевидение в науке невозможно. Следовательно, правильнее показывать читателю не только результат, но и сам процесс исследования. Поэтому в этих книгах, начиная, наверное, еще с 2001 года — уже после докторской, когда можно было писать более свободно, — всегда присутствует личный опыт.
И тут мне есть у кого учиться. Например, у Карла Шлегеля, у которого масса книг, и все они построены на использовании личного опыта как главного инструмента. И есть еще многие историки, которые работают примерно так же.
Вопрос из зала: А какие отношения с березкой были у позднесоветского интеллектуального андеграунда? Мне, например, вспоминаются строки Игоря Холина: «Голубые / Слова / И улыбки / Голубые / И березки / Голубые».
Игорь Нарский: Вы знаете, есть замечательные стихи о березе — у Есенина, Вознесенского, Набокова и других авторов, достаточно автономных от всяких стереотипов. И мне очень нравится сама ситуация, когда читатель или слушатель, услышав о березе, сразу находит свою собственную историю, свои ассоциации.
Поэтому это так важно. Все эти разговоры и действия вокруг березы связаны не только с символами, но и с простым отношением: человек либо любит березы, либо не любит. Существует культурная традиция, в рамках которой можно не принимать то, как березу пытаются инструментализировать, и противопоставить этой инструментализации что-то другое.
Когда, например, Бальмонт писал, что «в России любая береза торжествует за счет других человеков», — это именно об этом. Все эти стихи, акты высказывания выстраиваются вокруг общеизвестной традиции. Но как именно ее представить и выразить — у каждого по-разному.