«Ни одна богословская концепция не дает ответа этическому кризису, перед которым мы стоим»
Интервью с религиоведом Константином Антоновым
Из личного архива Константина Антонова
В чем фундаментальные различия между теологом, философом религии и религиоведом, почему, вопреки всему, богословие в наше время остается пространством диалога и какое прикладное значение имеют эти и смежные дисциплины? Об этом Филипп Никитин расспросил Константина Антонова, автора книги «Religio et Ratio: религиозная жизнь и пути ее рефлексивного осмысления».
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Константин Антонов. Religio et Ratio: религиозная жизнь и пути ее рефлексивного осмысления. М.: Издательство ПСТГУ, 2025. Содержание
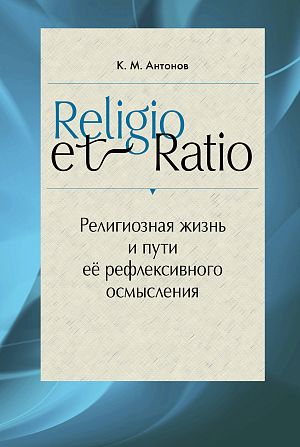
— Константин Михайлович, вы заведующий кафедрой философии и религиоведения в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Расскажите, пожалуйста, о ваших научных интересах и работе в этом университете.
— Мой исходный научный интерес — русская философия, точнее русская религиозная мысль. Этот интерес начался еще на студенческой скамье. Моим первым героем был Иван Васильевич Киреевский — его наследие невелико, а духовный путь довольно увлекателен. После защиты диссертации и нескольких попыток найти работу меня пригласил в ПСТГУ (тогда богословский институт) заведующий кафедрой философии Виктор Петрович Лега. Мой научный интерес к тому времени расширился и повернулся в сторону проблемы религии и ее отношений с разумом: мне стало интересно, что такое вообще «религиозная философия» как явление, какой «религиозный опыт» стоит за этим, почему она очень часто связана с феноменом «религиозного обращения», конверсии. Может ли конверсия вести человека не к состоянию блаженного катарсиса, а к напряженному рефлексивному поиску философского порядка? А также как мыслили религию сами религиозные философы, была ли у них какая-то «философия религии», есть ли связь между их базовым религиозным опытом и их пониманием религии и какая? Все это ввело меня в сообщество, с одной стороны, философов религии, а с другой — религиоведов. А в то же самое время делались попытки написать церковный документ, посвященный проблеме отношений религии и науки — и мне довелось в этом поучаствовать.
И тут руководство ПСТГУ обратилось ко мне с предложением организовать направление «Религиоведение» на богословском факультете. Я не сразу понял, на что подписался, но с тех пор часто определяю свою идентичность именно таким образом: я философ, пытающийся организовать религиоведение на богословском факультете. Именно из этого опыта родилось большинство текстов, вошедших в книгу. Те проблемы и противоречия я в каком-то смысле пережил на собственной шкуре.
— Кто повлиял на вас как на философа и религиоведа?
— Ну во-первых, наверное, русские религиозные мыслители, чье понимание религии, мне кажется, может быть довольно успешно введено в современные дискуссии. Если это делать методологически корректно, то можно найти интересные точки пересечения не только с феноменологией религии, что уже стало, кажется, общим местом, но и с пониманием религии как символической системы у Клиффорда Гирца и Роберта Беллы. Точно так же мне кажется актуальным присущий им способ религиозной жизни — попытка совмещения религиозной глубины и духовной свободы, осознания ценности научного и философского творчества. В понимании природы русской религиозной мысли я пытался найти свой путь в споре между покойными Сергеем Сергеевичем Хоружим, Владимиром Вениаминовичем Бибихиным и Сергеем Михайловичем Половинкиным, понять ее «религиозность» не как содержательную, а как формальную характеристику: дело не в том, какую религию (правильную или неправильную) исповедует философ, а в том, что проблема религии стоит для него как наиболее насущная, захватывающая весь его познавательный интерес.
На мое понимание рациональности сильно повлияла философия коммуникации и диалога, и здесь я был очень впечатлен, когда обнаружил определенную конгениальность между идеями таких авторов, как Сергей Николаевич Трубецкой, Семен Людвигович Франк, Александр Александрович Мейер, с одной стороны, и Карл-Отто Апель и Юрген Хабермас — с другой. Осознание коммуникативной природы рациональности, нашей «хочешь-не-хочешь» включенности во множество диалогических сетей и структур — это то, что способно, мне кажется, научить нас всех немножко терпеть друг друга в контексте той «войны богов», о которой писал Макс Вебер — а он тоже для меня очень важен — прежде всего как теоретик гуманитарного и социального знания и «рациональности» в целом. Если говорить о философии религии, то моя концепция сформировалась в дискуссии с Владимиром Кирилловичем Шохиным. Если о религиоведении — то это были дискуссии с покойными Александром Николаевичем Красниковым, Михаилом Юрьевичем Смирновым и ныне здравствующими коллегами по Русскому религиоведческому обществу.
— Бо́льшая часть вашей книги содержит ранее опубликованные тексты. Что заставило вас собрать их под одной обложкой? Расскажите, пожалуйста, насколько они претерпели изменения и какого рода редактура была сделана.
— Да, в книге собрались тексты, которые писались на протяжении примерно 20 лет. В конце концов мне показалось, что они складываются в единый сюжет. В самом общем виде я бы описал этот сюжет так: каким образом чрезвычайно проблематичные отношения религии и рациональности как неких форм человеческой практики определяют опять-таки очень сложные и конфликтные отношения теологии, религиоведения и философии религии как академических дисциплин. И далее: как все это отражается в реалиях нашей жизни — как церковных, так и академических; какие сиюминутные проблемы и конфликты тут возникают и почему они не могут быть легко преодолены, но могут быть как бы купированы в рамках некоторой универсальной сети «зовов и откликов» при условии, что мы будем хотя бы иногда вспоминать, что мы в нее всегда уже включены и никогда не в состоянии подняться над ней, не имеем оснований — ни научных, ни религиозных — смотреть на других участников свысока.
Для того чтобы это оформить, потребовалось написать несколько предисловий, которые связали философскую, метатеологическую, религиоведческую и «практическую» части в некие целостности и между собой. Статьи выстроились в определенный порядок. Этому очень помогло сотрудничество с Большой российской энциклопедией, для которой я написал статьи «Религия», «Философия религии», «Теология», «Религиоведение» (последнюю в соавторстве с Ксенией Колкуновой). Ну и понятно, что в ряде случаев я «сводил счеты» с редакторами (надеюсь, они не будут на меня в обиде) — возвращал в статьи отдельные куски текста, которые приходилось убирать из него при журнальной публикации. Энциклопедическую статью «Теология» при публикации в электронной БРЭ пришлось разбить на три части — такая она получилась огромная. В книге эти части стали разделами.

— В предисловии вы пишете, что книга имеет практическое измерение. Поясните, пожалуйста, эту мысль.
— Тут есть два аспекта. Во-первых, и религию, и рациональность я понимаю прежде всего как определенного рода практики — говоря немного упрощенно, как практику поклонения и как практику рефлексивного ориентирования в мире, в котором мы живем. Каждая из этих практик формирует свой этос — набор ценностей, императивов и принципов поведения, свой язык, свою манеру говорить о вещах, и уже на этой основе возникает исторически довольно изменчивый набор категорий, то, что Кант называл априорностью, и уже потом — какое-то «мировоззрение». Поэтому конфликты между «религией» и «наукой» такие странные: с одной стороны, кажется, что они возникают на пустом месте и чуть ли не выдумываются, во всяком случае при желании легко устранимы. Нет проблем, к примеру, согласовать шесть дней творения и «Большой взрыв». С другой — эти конфликты являются неустранимой частью нашей культуры, «война богов», о которой говорил Макс Вебер, кажется неизбывной, этос благоговейного поклонения и этос исследования — кажутся несовместимыми. И эта конфликтность указывает на второй аспект: как нам научиться справляться с конкретными напряжениями, возникающими в рамках этой войны богов и проходящими через нас, через наши мозги и через наши души. Как объяснить церковному начальству, зачем ему может пригодиться религиоведение? Можно ли научить религиоведов и теологов вести диалог? Как вести между собой разговор на равных «светским» и «церковным» исследователям? Как сделать так, чтобы заседающие в диссертационных советах философы не требовали от религиоведов-полевиков наличия философии в их диссертациях? Как обустроить религиоведение как образовательное направление на богословском факультете? Как может Церковь взаимодействовать с маргинальной религиозностью? Что такое православный университет и как это вообще может быть? Как объяснить православным студентам, что их вера не освобождает их от обязанности строить свои тексты по академическим правилам? Все это для меня открытые вопросы, но я попытался поделиться своим опытом их решения. В этом смысле книга кончается на позитивной практической ноте — отец Георгий Ореханов для меня является человеком, который не просто смог совместить веру и гуманитарную науку, теологию и религиоведение, а сделал так, что его интуиция пастыря и познавательный интерес ученого взаимно поддерживали друг друга.
— Одна из частей вашей книги называется «Теология как наука». Если коротко: почему теология — это наука? В чем принципиальные отличия российской теологии от теологии в западноевропейских странах?
— Мне кажется, признанию теологии наукой больше всего препятствуют два предрассудка. Первый говорит о том, что объектом теологии является Бог, а второй — что любая наука должна строиться по образцу математического естествознания, а иначе это просто «собирание марок». Кроме того, существует более сложная проблема демаркации, с одной стороны, между теологией и религиозными убеждениями людей в их повседневной жизни, а с другой — между теологией, религиоведением и философией религии. Кажется, что, если не решить эти проблемы, теология станет просто способом продвижения религиозных идей, который «съест» все другие способы изучения религиозной жизни. На самом деле теолог отвечает на простой вопрос: во что должны верить представители его Церкви? Для этого он изучает церковную традицию и историю в целом теми же методами, которыми пользуется любой ученый-гуманитарий в своей работе. Церковное вероучение является для него не содержанием работы, не предпосылкой, а предметом изучения, который еще нужно вычленить, отделить от накопившихся за века «слишком человеческих» наслоений. Я вижу тут полную аналогию с философией: есть богословский и философский факультеты, на которых ведутся соответствующие исследования. И есть великие мыслители, которые, конечно, выходят за рамки научности, но зато создают нечто обладающее собственной ценностью, позволяющее нам лучше понимать мир и самих себя.
Причем, надо добавить, это различие не является абсолютным: чтобы что-то понять в Гегеле или в св. Филарете Московском надо научиться думать так, как думали они, освоить их технику и в каком-то смысле даже их отношение к жизни (при этом не сливаясь, не теряя чувства дистанции, сознавая различие горизонтов). И с другой стороны — выдающиеся мыслители, по крайней мере последних веков, как правило, проходили школу философского или богословского мышления на соответствующем факультете, защищали диссертации, часто вполне стандартные, а исследователи теперь ищут в этих диссертациях какие-то истоки их идей.
Что же касается различий между российской и мировой теологиями, то мне кажется, что они в значительной степени определяются исторически. В дореволюционный период теология существовала у нас в духовных академиях и лишь в небольшой части — в университетах (а это были две очень разные культуры высшего образования), при советской власти она вообще преследовалась и уничтожалась, и этот травматический опыт сказывается до сих пор. Сейчас теология возвращается в пространство высшей школы и академической науки, но ряд факторов препятствует появлению больших концепций, имеющих общественное звучание и влияние на культуру. Между тем есть очень острая потребность в появлении такого рода концепций — в 20-е годы нашего века мир вступил в эпоху чрезвычайно глубокого этического кризиса, которому христианская мысль должна дать какой-то ответ.
Если уж говорить об отличиях, то я бы скорее указывал на различие эпох и конфессий. Тут есть некоторый момент колебания. С одной стороны, теологи любят подчеркивать свои конфессиональные отличия, с другой — они сознают, что делают (пусть и во взаимной полемике) какое-то большое общее дело, а с третьей — православная теология, связывающая себя с эпохой Вселенских соборов и патристики, с принципом Предания, католическая, ассоциируемая со Средневековьем и идеей магистериума, и протестантская, очень сильно вложившаяся в становление Нового времени, опирающаяся на идеи sola fide и sola Scriptura, — сталкиваются каждая со своими проблемами, реагируют на вызовы современности каждая по-своему. Скорее удивительно, что при этом они ухитряются найти какой-то общий язык, и тем не менее это так, современная теология — это пространство диалога.
— Один из разделов вашей книги называется «Религия. Энциклопедическая статья». В этой связи предлагаю поговорить о работах ваших коллег. Что думаете про книги «Религия» Сергея Штыркова и «Наука о религии и ее постмодернистские критики» Алексея Апполонова?
— Книгу Штыркова я довольно активно использовал при написании своей статьи. Мне кажется, что она является прекрасным популярным и вместе с тем профессиональным введением в те дискуссии, которые ведут современные религиоведы по поводу «религии». Что касается работ Апполонова, то у меня к ним более сложное отношение. Я глубоко уважаю Алексея Валентиновича как медиевиста и переводчика Фомы Аквинского и в этом отношении я, опять-таки, опирался на его работы. Скорее всего, его критика в адрес Уильяма Кавано, Уилфреда Кантуэлла Смита, Джона Милбанка имеет основания там, где она носит фактографический характер. Однако там, где он пытается перевести эту критику на концептуальный уровень, он, мне кажется, терпит неудачу. Невозможно сделать вид, что такие понятия эпохи модерна, как «религия», «искусство», «язык», «наука», «политика», «мораль» и им подобные, являются неизменными универсалиями, без проблем существующими на протяжении всей истории человечества. Историцистская критика этих понятий (у нас в том, что касается «религии», очень ярко представленная Дмитрием Узланером) должна быть учтена, нельзя забывать о том, что наше познание — это не «отражение действительности», а наложение на действительность системы категорий, выработанных исследователями в результате сложных взаимодействий логики развития науки, повседневной жизни, культурной ситуации и так далее. В то же время я бы не оставлял попыток осторожно вычленять те или иные формы человеческой деятельности исходя из того, что эти категории все-таки не совсем случайны. Несмотря на то что Мишель Фуко в «Словах и вещах» очень убедительно показал, что «человек», как мы его понимаем, существо весьма историчное и преходящее, все-таки мне кажется, что кому-то очень похожему на нас постоянно свойственны такие занятия, как поклонение, создание артефактов, ведение разговоров, попытки что-то понять о мире вокруг него и тому подобное.
— Другой раздел именуется «Религиоведение. Энциклопедическая статья». В его начале, в определении термина, вы, в частности, говорите, что религиоведение — эмпирическая гуманитарная наука. В интервью, опубликованном на «Горьком», Марианна Михайловна Шахнович утверждает: «Такой отдельной науки, которая называется „религиоведение“, нет и никогда не было…» Что можете сказать по этому поводу?
— Ну мы фактически знаем, что существовали и существуют люди, которые употребляли и продолжают употреблять такие выражения как «study of religion», «Religionwissenchaft» и их отечественные аналоги, когда пытаются найти название для своего занятия. Существует познавательный интерес, направленный на религиозную жизнь людей, как она нам реально встречается в нашей жизни. Один из главных тезисов моей книги состоит в том, что наряду с этим интересом существуют и другие, также направленные на то, что мы в наших разговорах, повседневных и не очень, называем религией: теолога, как мы уже обсудили, интересует вопрос о том, во что следует верить представителю именно его религиозной традиции. Таким образом, он живет под знаком категорий «должное» и «единичное». Философа религии интересует, как вообще правильно выстроить религиозное отношение человека (один из вариантов ответа — что оно вообще есть нечто неправильное), он живет под категориями «должного» и «общего» в смысле «родового». Религиовед занят «общим» как многообразием и «реальным». Если существуют искусство-, литературо-, право-, науко- и проч. «-ведения», то нет причин отказывать религии в наличии аналогичной дисциплины.
Но Марианна Михайловна права в том отношении, что религиоведение более дискретно по сравнению, скажем, с искусствоведением или литературоведением, которые являются почти полностью гуманитарными. В религиоведении происходит гораздо более жесткая конкуренция между гуманитарно-антиредукционистскими апологетическими и сциентистски-редукционистскими критическими (как правило эволюционистскими) подходами. К религиоведению же мы относим и социологию, и психологию религии, и относительно этих областей трудно сказать, где там проходит граница между социологической социологией религии и религиоведческой… Религиоведу нужно не только знать о религии как можно больше фактов, но и владеть каким-то конкретно-научным инструментарием — филологическим, социологическим, психологическим — для их анализа и интерпретации.
— В сентябре в Культурном центре «Покровские ворота» прошла презентация вашей книги. Расскажите, что интересного на ней происходило.
— Мне очень хотелось, чтобы презентация стала продолжением обсуждения проблематики книги. Поэтому я пригласил поучаствовать в ней теолога, философа и религиоведа, а именно — прот. Владимира Шмалия, Светлану Коначеву и Оксану Куропаткину. Мне кажется, самым замечательным в этом разговоре было то, что нам удалось выстроить диалог, который был интересен не только нам, но и слушателям, которые в своих вопросах зачастую выступали как бы от лица самой религии. Тем самым подтвердилась драматургия, заложенная в книгу: для того, чтобы академическое знание о религии стало актуальным, оно должно рождаться в диалоге, в том числе в диалоге с предметом исследования.
— Какие богословские программы вам представляются наиболее перспективными в современных условиях? Какие христианские интеллектуалы вам импонируют?
— Это очень сложный вопрос. Если говорить об академической теологии в нашем отечестве, то наиболее важной тенденцией сейчас является стремление к аккумуляции всего наследия христианской мысли — как мировой, так и отечественной; как светской и религиозной, так и синодальной духовно-академической; как древней, так и современной. Но если говорить о богословии с большой буквы, то здесь, к сожалению, приходится сказать, что, во-первых, «больших идей» у нас пока как-то не видно, а во-вторых, в последние годы в мире произошли и происходят настолько кардинальные перемены, что ни одна богословская концепция даже самого недавнего прошлого не дает ответа тому этическому кризису, перед которым мы все стоим.
Для меня лично чрезвычайно важной является традиция христианского гуманизма, связанная с русской религиозной мыслью и идеей Богочеловечества, как она была выражена в христианской этике в позднем творчестве таких мыслителей, как Франк, Бердяев, Булгаков. Эта традиция имеет своих святых (мать Мария и парижские новомученики), она способна вступать в диалог с современной мыслью и вызывает интерес у ее представителей, она очень глубоко продумала вопросы сопротивления злу, вопросы человеческого достоинства, этических основ общественной и политической жизни…. Но и она требует переосмысления в свете нового опыта, новых философских и богословских языков, новой полемической ситуации в интеллектуальной культуре, новых проблем, стоящих перед человеком, обществом и культурой.
— Какие книги вы читали в этому году вне научной деятельности?
— Научная деятельность гуманитария — это, увы, такая опасная вещь, которая втягивает в себя все тексты, с которыми он входит в соприкосновение. Я очень дорожу установившейся в нашей семье традицией чтения вслух. Когда перечитываешь с внуками книжки, которые когда-то читал детям. Из последнего я назову «Тома Сойера и Гека Финна», Джеральда Даррелла, Джеймса Хэрриота — открываешь в них бездны новых смыслов.