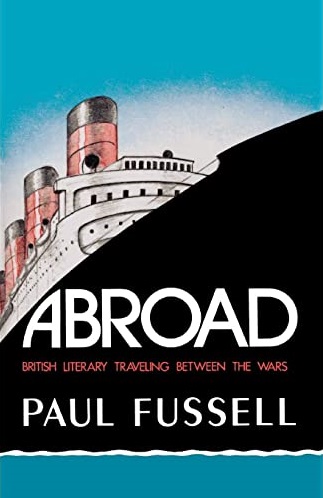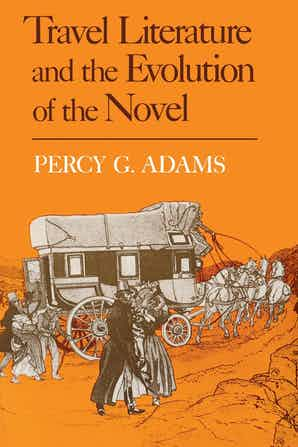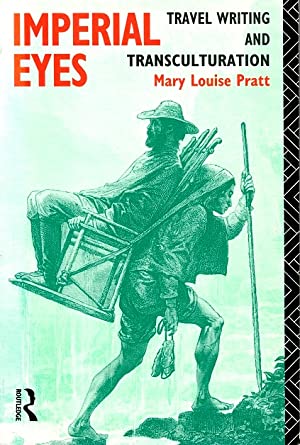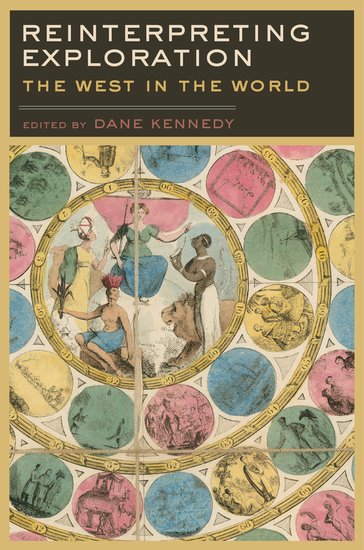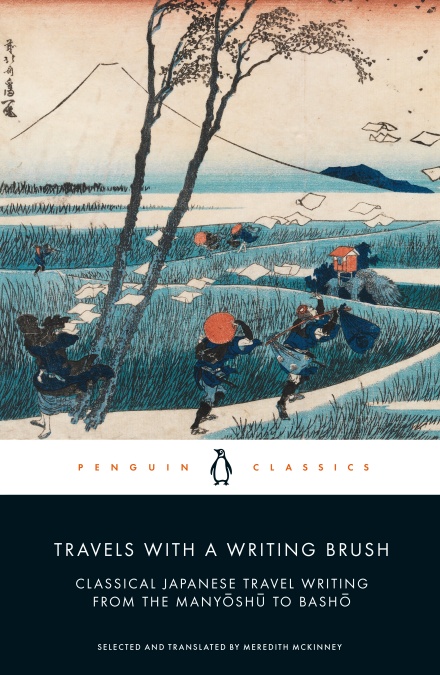5 книг о том, как устроена литература путешествий
Хотя описания путешествий — древнейшая область словесности, а книги, претендующие на то, чтобы дать исторический очерк этого явления, обычно начинаются с упоминания Гильгамеша и Одиссея, все же я, наверное, не ошибусь, если скажу, что главное внимание исследователей, работающих в области исследований литературы путешествий (travel writing studies), привлекает модерн, эпоха, когда империи поделили между собой мир, литература стала индустрией, случилась транспортная революция, мобильность обрела глобальные масштабы, а отважные первооткрыватели пробрались в глубины всех континентов.
Трудно сказать, справедливо ли это утверждение для российской академической традиции. Стандартной парадигмой изучения вопроса до сих пор остается та, которую европейцы эпохи Возрождения, наносившие на карты современных им Франции, Англии и Германии сведения, вычитанные у античных греков и римлян, называли «древней географией» (vetus geographia, ancient geography). Похожим образом работали русские историки XIX века, использовавшие старинные западноевропейские путешествия в качестве источника сведений о домодерной России, не имевшей самоописаний. Примером этого подхода была монография Василия Осиповича Ключевского «Сказания иностранцев о Московском государстве» (1866).
Не будет преувеличением сказать, что «древнегеографический» подход, тяготевший к систематизации обильного материала и не особенно склонный к теоретизированию, до сих пор остается мейнстримом отечественной науки. Исследования литературы путешествий в нашей стране — это область текстологии и герменевтики с предпочтительным интересом к домодерной литературной традиции, хождениям, паломничествам или отчетам послов. Даже путешествие Карамзина в Европу, как было подмечено Евгением Пономаревым, трактовалось позднесоветскими литературоведами как развитие традиции описания паломнического путешествия.
Симптоматичным для отечественной науки о литературе путешествий остается описанный в вышеуказанной статье конфликт поколений, связанный с использованием термина «травелог». Представители «классической» традиции исследования литературы путешествий его не любят, это нововведение, отсылающее к западной академической традиции, больше интересующейся модерностью — историей, социологией и антропологией драматических процессов, заложивших основания современного мира. Такая традиция исследований травелога тоже сложилась не сразу, и, при всем значении для нее знаменитого «Ориентализма» Эдварда Саида (1978), отнюдь не сводится к трудам постколониального направления. Упомянутые ниже англоязычные книги — иллюстрации ключевых точек эволюции исследований литературы путешествий в последние десятилетия.
Книга американского историка Пола Фассела, посвященная wanderlust’y английских писателей межвоенного периода известна в истории изучения нашей темы не меньше упомянутого «Ориентализма». Это не случайно. «Заграница», написанная легким стилем, доступным не только академическому читателю, вовсе не ограничивается своим периодом, но включает в себя наблюдения по поводу всей новоевропейской литературы путешествий вообще, впервые заявляет о многих теоретических проблемах, связанных с этой разновидностью литературы.
Во-первых, «Заграница» Фассела строится на изучении общих мест, которые используются в качестве базового инструмента анализа травелогов. Описания путешествий вообще тяготеют к типичности, соединению стандартных риторических ходов с географическими топосами, стереотипными репрезентациями пространства, кочующими из одной книги путешествий в другую. Современный читатель полагает риторическое скучным, однако так было не всегда. Литература путешествий как таковая выросла из страсти европейцев к классификации книжного по своей природе географического знания. Фассел любовно перебирает известные ему common places, иногда именуя их, как в главе о Средиземноморье, сокровищами британского воображения. Из коллекционирования общих мест, почерпнутых из английской литературы путешествий 1920–1930-х, выводится и основной тезис книги. Он таков: английские авторы, принадлежавшие к потерянному поколению, столкнувшись во время войны с ситуацией ограничения мобильности (описанная в первых главах книги тоска островитян 1915–1920-х гг. по путешествиям хорошо резонирует с сетевыми эмоциями наших современников, уставших от пандемии), после окончания боевых действий хлынули прочь из Англии. В основном их интересовал Юг — викторианская колониальная гелиофобия, в стереотипных рассказах о которой бледные джентльмены в панамах предостерегали приехавшего из метрополии новичка от жгучего солнца, в межвоенный период сменилась гелиофилией.
Фассел, в отличие от Саида, практически не говорит о том, что именно позволяло английским писателям межвоенного периода успешно осуществить свой рывок на Юг — конечно, не все в этой экспансии можно объяснить одной лишь образованностью, энергией и любопытством этих людей. То, что межвоенный период был последним этапом существования Британской империи, пользуясь инфраструктурой которой молодые англичане легко и дешево достигали Австралии, Новой Зеландии и Огненной Земли, остается за кадром.
Во-вторых, в книге Фассела вводятся элементарные различения, которых часто не хватает при разговоре о травелогах по-русски: в модерной литературе путешествий сосуществуют первооткрыватели (explorers), ищущие, чаще всего в научных или спортивно-националистических целях, новое и удивительное, туристы, пользующиеся современной системой комфортного путешествования и не сворачивающие с проторенных троп, и собственно путешественники (travelers), берущие от тех и от других, прилагающие любопытство и образованность, свойственные для первооткрывателей, к описанию повседневной, не особенно экстремальной географии, по которой одновременно с ними прохаживаются толпы обычных, несклонных к литературе, туристов. Фассел пишет о путешественниках как об исчезающей натуре — по его мнению, этим утонченным персонажам, стремившимся привить рефлексию и литературное мастерство, свойственные высокой культуре модерна, к никелированному стеблю современной туристической индустрии, не удалось пережить Вторую мировую.
Фассел смотрел на рассказы о путешествиях (он предпочитал называть их travel books) прежде всего как на литературу, считал путевые описания подвидом автобиографии, разворачивающейся в непривычном для автора чужеземном месте действия и требующей, в отличие от других жанров, например, романа, подтверждения достоверности сказанного, постоянных отсылок к затекстовой реальности. Другой исследователь того же времени — Перси Адамс, преподававший литературу в Тенессийском университете и тоже смотревший на рассказы путешественников как на литературное явление, — наверное, согласился бы с этим, но лишь отчасти.
В своей монографии 1983 года Адамс показал, что время начала глобальной экспансии европейцев было эпохой, когда ранние формы современного романа и разнообразные виды рассказов о путешествиях не только сосуществовали в качестве самых популярных видов литературы, но и активно влияли друг на друга, причем установка на достоверность сообщаемого и реалистичность изображаемого совсем не всегда была для их авторов аксиомой. Книга Адамса полна отсылок к многочисленным старинным текстам, на примере которых демонстрируются случаи превращения романов в путевые описания и путевых описаний в романы. История реального Александра Селькирка, превратившегося в книжного Робинзона Крузо и пережившего в этом качестве множество других приключений, — лишь самая известная из таких метаморфоз, и на самом деле эта трансформация была не исключением, а правилом. Книжка Адамса в основном и строится на таких примерах, описывает многочисленные перетекания романов в путевые дневники и обратно.
Адамс не был согласен с представлением о том, что реалистический роман в духе Толстого или Фолкнера — вершина литературной эволюции. Между вымыслом и реализмом в литературе никогда нет четкой границы, а у эволюции не может быть никакой вершины. И роман, и книги о путешествиях постоянно меняются и превращаются во что-то другое. По этой причине литературе путешествий так сложно дать однозначное определение, приходится рассуждать апофатически — от противного, — опровергая все предлагаемые классификационные критерии. Бесспорно только одно: все-таки рассказам о путешествиях обычно предшествуют путешествия как таковые.
И Фассел, и Адамс были единодушны в том, что литература путешествий — не самая популярная область исследования. Однако как раз тогда, когда были опубликованы их книги, все менялось. Происходивший на стыке литературоведения и антропологии рефлексивный поворот, характеризовавшийся постмодернистской критикой стандартных этнографических моделей, при помощи которых европейцы привыкли описывать мир, породил целую область travel writing studies. Вторым важным манифестом рефлексивного поворота, помимо «Ориентализма», был выпущенный под редакцией Джеймса Клиффорда сборник статей «Описание культуры: поэтика и политика этнографии» (Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, 1985). В самом «Описании культуры» о травелогах говорилось явно недостаточно, однако спустя несколько лет американка Мэри Луиза Пратт, cо статьи которой, в сущности, и начиналась эта книга, выпустила специальную монографию, где принципы рефлексивной этнографии применялись к литературе путешествий.
«Имперские глаза» можно назвать образцовой книжкой своего направления, порожденного постфукианской критической теорией. Определить, что такое литература путешествий как жанр, Пратт уже не пытается. Для нее литература путешествий — политически нагруженное письмо (travel writing), вплетенное в другие дискурсы империалистической экспансии. Пратт описывает феномен травелога в терминах деколонизации знания, критики отношений власти, посредством которых колонизаторы и колонизируемые вовлекались в литературные проекты, репрезентировавшие не отличавшийся справедливостью мировой порядок так, чтобы это каким-то образом устраивало обе стороны. Аналитический аппарат книги, построенной на материале травелогов XVIII-XIX веков, посвященных путешествиям по Африке и Южной Америке, представляет собой набор инструментов, призванных «расколдовать» эту намеренно и ненамеренно скрывавшуюся европейцами диспозицию. Как и положено для произведений критической теории, все это очень хлесткие, памфлетные метафоры. Ключевой среди них является антиконквест — стратегии репрезентации, при помощи которых европейский субъект, насаждавший в колониях свою гегемонию, получал возможность не выглядеть агрессором ни в собственных глазах, ни в глазах колонизируемого. Формой антиконквеста, например, была риторика усовершенствования или прогресса, авангардом которого объявляли себя европейцы, антиконквестом была и манера описывать далекие страны как отвлеченно экзотические, природные, культурно пустые, якобы лишенные активного населения, которое могло бы что-то противопоставить благим намерениям колонизаторов.
Пратт была социолингвистом и литературоведом, не историком, и не антропологом. При всей изобретательности и страстности своего критического инструментария составленный ею постмодернистский трактат, как и многие другие подобные книги, сводился к пристальному изучению риторических приемов и тропов немногочисленных канонических текстов европейской экспансии. Делая выводы о предположительных мотивациях их создателей, описываемых исключительно с точки зрения участия в политически заостренном противостоянии колонизаторов и субалтернов, автор почти не затрагивал других контекстов, способных усложнить эту картину или прояснить ее детали.
Через какое-то время постколониальная оптика стала сковывать исследователей. На смену рефлексивному повороту с его акцентом на текстуальности приходили другие — в частности, реляционный, обращавшийся к сетевой, контекстуальной природе социальных явлений. Влияние именно этого комплекса идей, кажется, стало определяющим для нового поколения авторов, работающих в области исследований географических открытий (exploration studies). Признавая важность методологических открытий, сделанных представителями travel writing studies, они все же склонны отделять себя от этого сообщества, отмечая, что их интересует не столько критика экспансионистской идеологии, сколько более тонкое понимание движущих сил, стоявших за путешествиями европейцев на край света, освещение многообразия дискурсивных и инфраструктурных контекстов, в которых происходила европейская экспансия.
Работы об инфраструктурных контекстах географических открытий с необходимостью касаются и проблем репрезентации этих проектов. С точки зрения авторов сборника 2014 года, посвященного переосмыслению феномена географического открытия, литература путешествий — важнейший социальный институт эпохи высокого модерна, отвечавший и политической повестке занимавшихся разделом мира национализирующихся империй, и коммерческим задачам развивавшейся буржуазной прессы, и нуждам недавно получившей доступ к грамотности новой массовой аудитории, искавшей в книжках пользу, соединенную с занимательностью, и, прежде всего, устремлениям самих путешественников, часто совмещавших в одном лице статусы ученых, чиновников, звезд шоу-бизнеса и колониальных героев (выражение Берни Сэбэ). Пожалуй, главная тема этой книги — как, возможно, и exploration studies в целом — роль, которую сыграла буржуазная медийная инфраструктура в истории фигуры первооткрывателя как социального типа, порожденного эпохой Нового Империализма.
Характерный для исследований литературы путешествий европоцентризм, конечно, объясним — перечисленные выше авторы уделили этому вопросу немало страниц, — но вряд ли простителен. Все же вникнуть в особенности национальных традиций путевых описаний, не являясь специалистом-страноведом, порой довольно сложно. На наше счастье, совсем недавно австралийский профессор и переводчик Мередит Маккини опубликовала замечательную антологию, снабженную обстоятельной вводной статьей, в которой описывается хронология, география и (что, на мой взгляд, особенно важно) система категорий, лежавших в основании классической японской литературы путешествий.
Хотя тема путешествия, замечает Маккини, связывала между собой все жанры, центральное место в классической японской литературе принадлежало поэзии. Восприятие пространства средневековой Японии задавалось не только и не столько непосредственным опытом, сколько традиционными поэтическими конвенциями — таков, пожалуй, самый контринтуитивный и самый культурно-специфичный тезис, положенный составителем в основание антологии. На протяжении тысячи лет, со времен «Исэ-моногатари» до путевых дневников Басё, пишет Маккини, главным назначением прозаического травелога, повествующего об отрывочных путевых впечатлениях, было обрамление стихов, которые мыслились квинтэссенцией литературности. Отсюда — роль утамакур (utamakura) — системы обладавших определенными поэтическими коннотациями топонимов, связывавших географическое пространство Японии с богатым и бережно сохранявшимся в веках образным рядом классической поэзии. В завершение мы просто процитируем фрагмент книги в нашем вольном переводе:
«Величайшим удовольствием, которое было доступно искушенному в литературе путешественнику, была радость лично посетить место, уже освященное поэзией. Сцена из „Исэ-моногатари“, в которой мужчина (традиционно отождествлявшийся с поэтом Ариварой-но Нарихира) посылает своей возлюбленной весточку с далекой горы Утсу, отозвалась в веках во множестве травелогов, авторы которых, описывая путешествие по дороге Токайдо, пытались отыскать место, где произошла эта история. При этом не существует достоверных свидетельств, что Нарихира когда-нибудь вообще бывал в этих местах. Он использовал топоним Утсу (Mount Utsu) потому, что он отчасти совпадает со словом utsutsu (реальность) и его можно было применить в традиционной поэтической игре слов. Многие другие места, упомянутые в этой книге, обрели свою поэтическую славу похожим образом; она была не столько атрибутом самого места, сколько атрибутом его литературной (иногда — исторической) репрезентации, что сообщало ему особую силу».