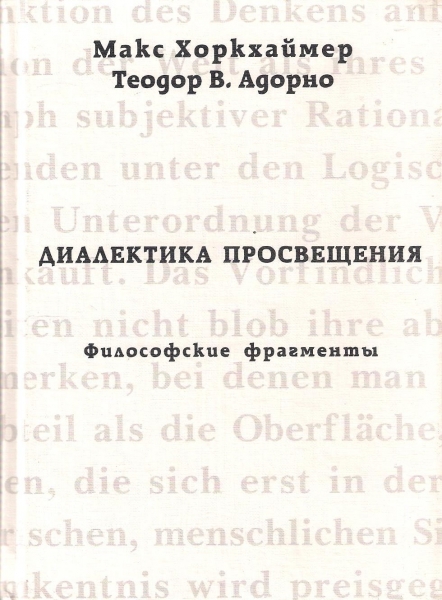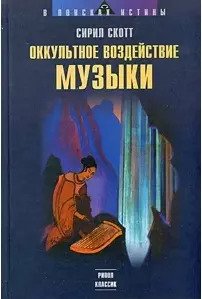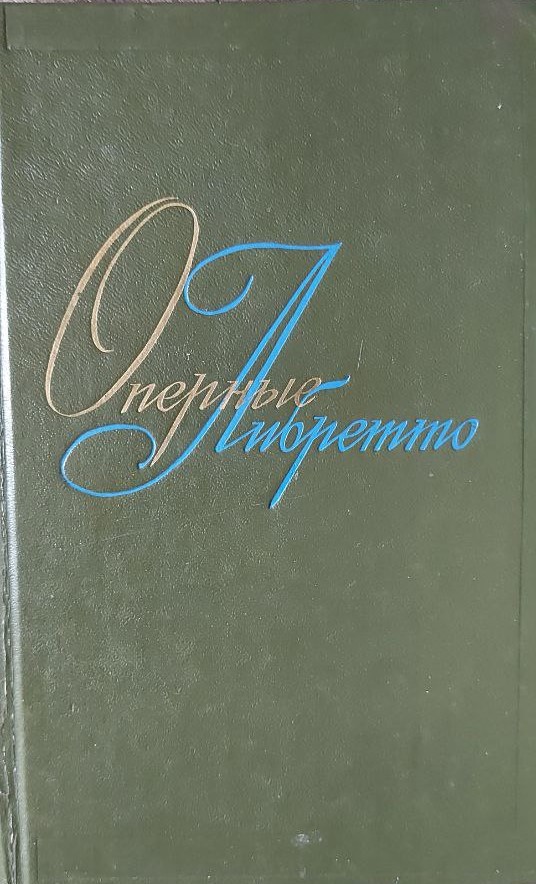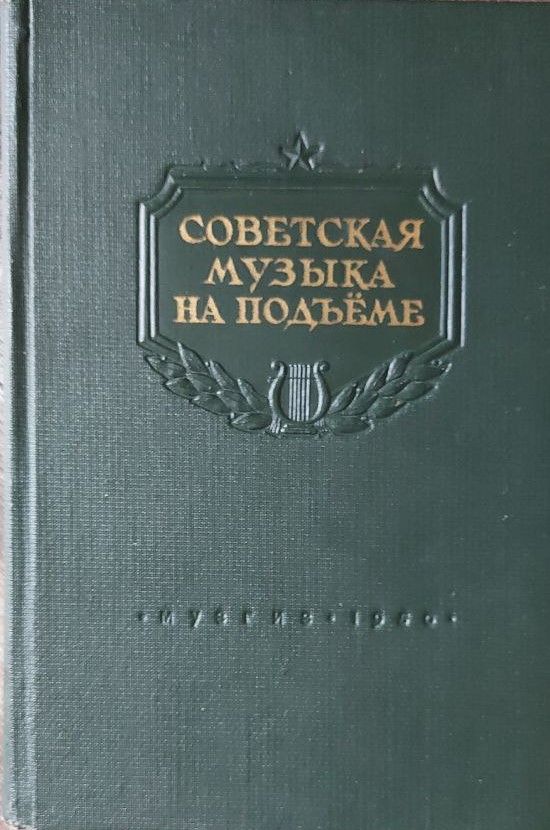5 книг о том, что такое сила искусства (на примере музыки)
Управление искусства человеком и управление человека искусством — это темы, которые с некоторых пор неизменно волнуют власть. Идеократии, автократии регулярно охватывает утопическое желание контролировать все без исключения процессы, в том числе процессы самой культуры. Мы находится как раз в такой ситуации, когда ищут мастеров культуры, чтобы создать наконец то, что соответствует нашим идеалам и достижениям. Если всерьез отнестись к этой теме управления всего и всем, то мы обнаружим, что она очень гетерогенна, восходит к очень разным историческим эпохам и представлениям о человеке, искусстве, ремесле, мире и всем прочем.
Когда из этих представлений пытаются склеить цельную конструкцию, получается нечто не всегда убедительное. Скажем, есть такое явление — арт-терапия, в том числе музыкальная. Это очень развитое направление, но с ограниченной зоной действия. Оно представлено с научной точки зрения медицинскими факультетами, кафедрами парамедицины. То есть речь идет о том что, есть некие сигналы (допустим, звуковые), которые благотворно воздействуют вне зависимости от того, понимает ли человек, что он слушает Моцарта, или разбирается ли он в барочном аутентизме. То есть источник в арт-терапии никак не связан с интерпретацией или осмыслением искусства. Но при этом сама культура, сам язык могут не располагать элементарными артикуляционными средствами для интерпретации наблюдаемых эффектов — одно принимается за другое, причина выдается за следствие, трансцендентное объявляется имманентным, процесс — структурой.
Если обратиться к книгам, можно обнаружить массу теоретического, исторического, архивного материала, который, находясь от нас на довольно отдаленном историческом расстоянии, помогает описать происходящее в менее топорных схемах, предлагающихся обычно в суровые времена.
Все, что Адорно говорит о культурных индустриях, — актуально, пусть он говорит это в вульгарном, сильно обобщающем ключе. То, что сейчас происходит, я бы назвала «патриотизм в эпоху его технической воспроизводимости». Мы живем в эпоху культуриндустрий, а не только великих свершений. Культуриндустрия — особый модус культуры, когда от производства смыслов она переходит к воспроизводству самой себя.
Здесь нет ничего опасного или фатального, у культуры в культуриндустриальной форме есть мощнейший эмансипаторный потенциал — накладывая на все печать единообразия, она рождает весь спектр разнообразия. Творчество сильных мира сего, графоманство наших идеологов, их романтизм, их склонность к образному фантазированию, с моей точки зрения, укладывается в логику культуриндустрии: они тотальны, инклюзивны, замкнуты, воспроизводимы, — мы все в каком-то смысле отравлены и мыслим в логике культуриндустрии.
Разговоры «нам надо не высокое искусство, у нас есть великая русская культура» тоже ведутся в ключе культуриндустрии. Великие имена понимаются как элемент брендирования и саморекламы, и совершенно небеспочвенно. Отвращение к Достоевскому или Чайковскому считывается как подлость со стороны конкурентов, которые осуществляют рейдерство русской культуры, подрезая ей крылья. При этом говорится о каких-то высоких смыслах, о неуничтожимости, но почему-то в терминологии культуриндустрии, как о доведенном до ума продукте с линейкой потребительских опций.
Говоря о культуриндустриях, Адорно делает акцент на смехе, на включенности в систему подчинения всеобщему хохоту. Сейчас же наоборот — юмор, сатира, ирония объявляются незаконными, опасными, несвоевременными. Я все равно в этом вижу катарсис культуриндустрии, которая либо заставляет всех смеяться и аплодировать, либо погружает в настроение всеобщей скорби. Предмет скорби точно не определен, поскольку «мало информации». Это единообразие вместе с нигилизмом Адорно связывает со всеобщностью тотальности.
Раньше я считала эту книгу помоечной, но напрасно: это влиятельный автор, который проводит ревизию всей истории музыки с точки зрения ее оккультного воздействия. Естественно, за этим стоит довольно безумная теория, где уживаются мистические воззрения, остатки гностических эллинистических культов, пифагорейство и др. Весь этот эзотерический конгломерат переходит из поколения в поколение практически в неизменном виде, то есть там нет особых вариаций, есть только ревизионизм.
Например, когда Скотт обращается к пантеону великих композиторов, он берет не только Генделя, Баха, Бетховена, но и добавляет Мендельсона, Шумана, Штрауса и Шопена, рассматривая последнего как посредника между людьми и дэвами. Он берет Чайковского и Скрябина, импрессионистов, Мусоргского и доходит до популярной музыки, английских баллад и даже джаза. Кроме того, там есть сложная гипотеза, согласно которой еще Пифагор показал, как музыка может воздействовать на молодежь и так далее. Я удивляюсь, что эта концепция еще не включена сейчас в оборот, потому что она бы очень многое объяснила тем, кто нигде не учился.
Когда читаешь это сочинение, думаешь о том, как вообще такое возможно, если исключить, что автор сошел с ума? Вероятно, это связано с тем, что мы никогда до конца не понимаем, что такое античная наука, — и уж тем более мы не понимаем, что такое античное искусство, античный театр. Например, еще в конце XIX века шли дискуссии по поводу того, что собой представляет античный театр — Ницше, Вячеслав Иванов, Евреинов призывали отказаться от ущербного буржуазного психологического театра и повернуться в сторону театральной соборности. При всем благородстве и насущности таких задач нельзя устранить момент зазора, неполного понимания, что такое античный театр, античная музыка и само это хоровое начало. Но человек модерна привык присваивать, каталогизировать, ревизионистским образом подверстывать всю историю под себя, прослеживая генеалогии от Египетского царства до наших дней. Парадокс состоит в том, что сверхпонимание, приводящее к мысли о всеобщем воздействии и о том, что Мендельсон и древние музыкальные лады объединены идеей воздействия, рождается из невозможности помыслить и связать то, что осмыслению и не должно поддаваться.
Введение во всеобщий оборот темы «оккультного воздействия» связано с массой причин, в том числе с пониманием политического так, как оно представлено у Гоббса и Спинозы. Гигантское государство иррационально, оно проникает в каждого и желает добраться до внутреннего пространства любого человека. Здесь среди других причин требуется разобраться с концепцией пассивности — в XIX веке зарождающаяся культуриндустрия прежде всего делает своего потребителя пассивным. С одной стороны, она делает его пассивным, а с другой — рекрутирует уже пассивных зрителей. Динамика пассивности связана с тем, что первыми посетителями концертов были люди, которые либо имели опыт сочинительства музыки, либо сами были музыкантами — по крайней мере, все имели опыт какого-то исполнительства. А в конце XIX века уже появляется публика, которая не разбирается в нотах. Есть аудитория, которая сидит с клавирами и следит, но эта аудитория, на чем настаивает Вагнер, пригвождена к стулу — эти люди не должны двигаться, они должны застыть и пропускать через себя звуки, находить отклик в душе ко всему, быть максимально сосредоточенными. Даже в фигуре дирижера, когда он просто откашливается и пытается сосредоточиться.
Книга Скотта представляет некоторую версию подобного мировоззрения: для него важна личность, которая оказывает особенное влияние на людей. Например, Шопен, пишет он, музыкой очень влиял на женщин, — особенно на немок и англичанок. И вот Скотт пытается понять, где находятся порталы, через которые Шопен смог проникнуть и оказать влияние. Это влияние, по Скотту, нужно, чтобы доносить до людей некоторые истины, которые связываются с самосовершенствованием.
У меня есть любимый всеми забытый советский жанр — сборники оперных и балетных либретто. Они издавались многотомными, немыслимыми тиражами. Смысл этой колоссальной систематической работы не ясен, пока не посмотришь в оглавление. А по оглавлению видно: перед нами картина мира.
Либретто пересказывают содержание опер. Они предназначены для того, чтобы зритель не скучал и не терялся. Однако это очень холодное чтение, поскольку здесь не производится никакого анализа, а представлены чистые абстрактные нарративы. Однако здесь стоит учесть важную вещь: оперы к этим либретто писались в эпоху становления национальных государств. Иными словами, перед нами респектабельно оформленный нарратив музыкального национализма, разделенный по странам — итальянская, германская, австрийская опера, русский балет. То есть ты читаешь сотни либретто и понимаешь, что они об одном и том же: о становлении национальных государств в XIX веке, в которых расцветала музыка романтизма, имея особое значение, поскольку была призвана выразить дух народа.
Либретто — это такие концентраты народного духа, где хорошо видно, что он устроен во всех странах совершенно одинаково. Это, конечно, связано и тем, что у оперы есть свой источник, что это не просто пример подражательства, а франшиза, лицензия на представление народа на сцене. Задача заключается в том, чтобы национальные элиты увидели на сцене самих себя и свой народ, который они никогда не видели целиком в разных исторических срезах. Потом роль оперы стало выполнять кино, конечно. Тут уже все стало намного проще.
Очень дорогое по своим временам издание — оно стоило 15 рублей, — с тиснением и высоким шрифтом. Перед нами отчетный сборник статей. Тут есть разделы: как представлено реалистическое направление в музыке, каких вершин достигла советская музыка — программная музыка, камерная музыка, массовая песня и инструментальный концерт. Это издание относится к той разновидности книг, которые отправляются новыми «на дачу» или в макулатуру. Их никто не должен был читать. Именно поэтому в них можно прочесть то, что больше нельзя прочесть нигде. Ведь какую бы мы ни взяли книгу замечательных издательств, например, Ad Marginem или НЛО, у нас всегда есть ощущение, что мы такое уже читали, даже есть ощущение, что мы сами бы такое написали. А эта книга стала результатом того, что где-то наверху сказали: музыкой можно управлять. И направляются гигантские средства, чтобы это подтвердить. Соответственно, нужна отчетность, но люди же неглупые управляют государством, они же понимают, что невозможно представить какие-то цифры. Более того, они будут себя чувствовать одураченными, если им эти цифры покажут. Ну и что, что три тысячи песен написано за год, а люди-то их поют?
Как следует из названия, перед выдающимся музыковедами — среди авторов такие специалисты, как Скребков, Протопопов, Цукерман, — была поставлена не просто невыполнимая, а безумная задача: показать, каких достижений добилась советская музыка.
Тексты пронизаны шизофреническим ужасом, который испытывают авторы. Они пишут, что, дескать, многое достигнуто, но есть и то, что следует раскритиковать. Поэтому они разбирают ошибки, отвергают какие-то произведения, какие-то клеймят за отход от реализма в музыке. Это еще в 1920-е началось: произведения, которые дискредитируют власти своей простотой и идиотизмом — например, претензии к Кабалевскому, которому как бы не хватает таланта. Но это можно по-разному интерпретировать: например, если ему не хватает таланта, то это хорошо, ведь советский человек в этом случае может проявить волю. Его упрекают за некую безответственность, — то есть он, не осознавая до конца, чем на самом деле является эпическое произведение, тем не менее его пишет, как-то называет, и его предательски выдает его собственный стиль. Вот Кабалевский пишет оперу «Семья Тараса» о сложных событиях Великой Отечественной войны, с эпизодами, связанными с оккупацией. То есть война еще не закончилась, а он где-то в глубине своей души уже писал оперу. В ней есть попытка воссоздать внутренний мир человека, находящегося в эпицентре войны. Это благородное дело — браться за такое сложное дело, но и ответственность чрезвычайно велика.
От этого, кстати, и Прокофьев пострадал с оперой «Повесть о настоящем человеке». Тут требуется какой-то особый масштаб, который подкрашивает этого настоящего человека как мелкого, частного, переживающего свои чувства, но в то же время надо это сделать жирными мазками и мыслить абстрактно. Точно так же осуждали других музыкальных деятелей, включая Шостаковича, производивших слишком сложные высказывания, которые не то чтобы не поддавались никакой оценке и дешифровке, а просто своей сложностью обижали. В этом случае говорили, что он оторвался от реальной жизни, погрузился в гротескные миры и забыл о светлых сторонах, забыл о народе. Так они пытались сказать, что эта симфония просто неудачная, она неправильно рисует образы прошлого, образы будущего советского человека и неправильно показывает то, как устроен мир сейчас. То есть она показывает какого-то мятущегося человека, который не может принять решение. Странно, почему нельзя принять решение в 1935-м году? Все же ясно, а тут кому-то не ясно.
Книга рассматривает, как связаны голос власти и голос индивидуального существа. Автор показывает эволюцию человеческого голоса и того, как мы слышим этот голос. Оказывается, что за этой эволюцией стоит сложная система приучения к медиа, очень сложная система производства голосов.
Почему появляется мода на мужские тенора — и никто не слышит, что мужчины говорят и поют фальцетом? Почему отклонения от дикторской нормы в какой-то момент считываются как нормальные, а потом воспринимаются как некий знак голоса? В книге есть отличные главы про Гитлера и про то, как он работал с голосом, что говорили о его голосе, как происходило привыкание к этому голосу. Вообще, подробно раскрывается, почему радио является медиумом тоталитарного общества.
Булгакова уделяет много внимания голосу именно в русской культуре, пишет о голосовой утопии, редуцировании, поисках канона. Это важно, потому что произошла такая смена сингулярно-подвижного голоса, который нам передался в конце 70-х как уже абсолютный нормализованный дикторский голос без всяких акцентов, усредненная речь на русском, к которой все привыкли, — более того, эта речь повлияла на речь всех граждан. Булгакова очень интересно инсталлирует в свою систему имперские и театральные голоса, не обходит ни один возникающий вопрос (например, что такое мхатовская, ленинградская манера произнесения), виртуозно выстраивая различные линии голосовых сюжетов. Все задачи здесь выполняются на уникальном историческом материале, в котором узнаются и современные сюжеты.