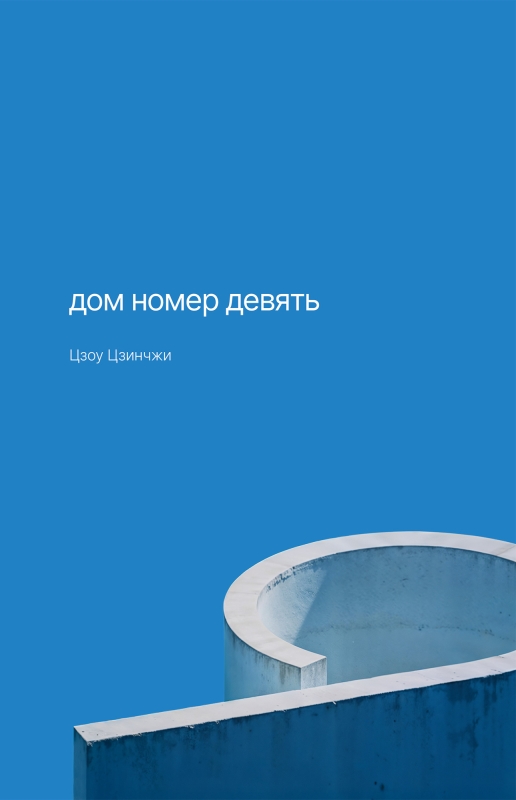Жизнь глазами хунвейбина
О книге Цзоу Цзинчжи «Дом номер девять»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Цзоу Цзинчжи. Дом номер девять. М.: Поляндрия, 2025. Перевод с китайского Ольги Козловой
|
Вслед за «Четверокнижием» Яня Лянькэ, русский перевод которого был опубликован в «Поляндрии», то же издательство выпустило в свет другой важнейший текст о «культурной революции» в Китае — «Дом номер девять» Цзоу Цзинчжи, еще одно размышление о детстве, тоталитаризме и насилии, облеченное в форму сборника рассказов, объединенных общими персонажами.
«Культурная революция» была бы невозможна, если бы Мао Цзэдун не разглядел в борьбе поколений, в желании подростков поднять бунт против хоть чего-нибудь, страшный потенциал: «молодость не прощает», юные жаждут славы и мечтают проявить себя в героической борьбе, которая, как им кажется, вступает в новый этап. И Мао не ошибся: дети соответствовали революционному идеалу гораздо лучше отцов. С точки зрения Великого кормчего, инициированное им столкновение привело к безусловному — и жестокому — успеху его политики. Как же осмысляется этот опыт в книге Цзоу Цзинчжи?
Одно из важных наблюдений автора касается биологизации поведения людей в ходе «Большого скачка» и последовавшего за ним Великого голода. Эта перемена хорошо соотносится с возвратом к военному коммунизму, к предельному уплощению и упрощению отношений между людьми. Примитивный материализм подменяет собой дух, физическая сила выходит на первый план, экономические расчеты строятся на возможностях ручного труда. Мао уловил нечто общее между биологическим и социальным порядками — используя термин Мишеля Фуко, он биологизировал политику. В одном из рассказов Цзоу повествователь замечает:
«Я считаю, горюющий человек просто не думает о туалетных делах, у него нет ни настроения, ни времени на это, а может, и не хочется вовсе. Моего знакомого старшеклассника, Кэ Ли, признали активным контрреволюционером и посадили, а когда выпустили, он сказал кому-то, что за те девять дней ни разу не сходил в туалет по-большому, ни разу. Потом все выходило в виде черных шариков, они камешками падали в унитаз, было больно, ему казалось, он превратился в козла на привязи под палящим солнцем, который какает такими шариками. После этого он впервые за девять дней почувствовал голод. Только тогда он понял, что вернулся к жизни, что снова жив, хочет есть, и это чувство голода стало для него особенно ценным, он решил, нужно больше есть, и с тех пор самым главным для него было поесть, сходить в туалет и снова поесть».
Резкое падение уровня жизни заставляет городского жителя совершенно неожиданно для себя оказаться в непосредственном соприкосновении с природой, чему в особенности способствует кампания, направленная на «сближение между городом и деревней». Городские дети впервые учатся выкармливать цыплят и взаимодействовать с доселе невиданным миром. А в другом случае они
«…читали вслух, заменяя незнакомые иероглифы на неопределенные местоимения: „что-то“, „кто-то“ и так далее. Получалось примерно так: „Кто-то установил какую-то стелу в память о чем-то“. Иногда им не удавалось прочитать ни одного иероглифа, тогда вся строка звучала как: „Что-то что-то что-то“ — никто не отлынивал. Я с теплотой вспоминаю детей, стоящих у подножия стелы, хором повторяющих: „Что-то что-то“».
Детское воображение как будто остраняет это непонимание, ставит на место неясного подлежащего «что-то», что каждый из детей нагружает собственным смыслом.
Через этот и многие другие подобные сюжеты Цзоу Цзинчжи передает, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений современника «культурной революции». Это пугающей силы свежее и непосредственное восприятие хунвейбинов, молодых людей, выступающих движущей силой революционного напора: реальность предстает перед ними словно бы впервые, в своем первозданном, неизведанном виде, и по сути единственным способом взаимодействия с ней оказывается тот, что был предложен Мао Цзэдуном. Вот сцена из одного рассказа, в котором на глазах у повествователя происходит своего рода разотождествление бабушки его друга — и в итоге в глазах детей она предстает врагом народа:
«Она села на стол и сказала: „Ребятки, бабушка устала“. „Долой псов-помещиков!“ От этого выкрика ее седые волосы покачнулись. Она снова поползла; я задумался, можно ли продолжать называть ее бабушкой Чжан. Она когда-то дала мне три помидора. Пока я их ел, она все шевелила беззубым ртом, и мне казалось, она хочет, чтобы я помог ей прожевать помидор — тот, что был особенно спелым. Ее губы шевелились и сейчас, она говорила: „Лучше дайте мне умереть“. Ван Даи охаживал ее прутьями, и с каждым ударом поднималось облачко пыли. Мы отошли друг от друга».
Рассказчик еще вспоминает о бабушке Чжан с точки зрения ее былой, «бабушкиной» функциональности — а прямо здесь и сейчас, у него на глазах, ее продолжают «прорабатывать».
Детская речь тех лет, какой ее вспоминает автор, вообще полна навязанных извне стереотипов:
«Если заболел, нужно принимать таблетки. Самые противные таблетки — лакричные. Все дело в том, что у них обманчиво сладкий лекарственный вкус. Лекарство должно быть горьким, как, например, полынь: положишь чуть-чуть на кончик языка — и горечь разливается по всему телу».
Другой пример подобного рода — культ лозунгов, который присутствует и в детской речи, ведь говорить чеканными формулировками проще, чем думать самому.
Ребята все время что-то рисуют на стенах дома номер девять на одной из улиц Пекина, где живет герой Цзоу Цзинчжи в детстве. И эти стены, пока с них не стираются надписи и рисунки, становятся своеобразным палимпсестом его детства:
«Я вижу на стене туалета очки. Никто не смог бы их разглядеть, а я вижу две окружности, еле заметно соединенные друг с другом, — возможно, это следы от установки водопровода, за этими очками нет глаз, эта оправа не для людей, она создана моим воображением. Еще есть девушка, танцующая на ветру, ее рваная юбка — кусок отслоившейся штукатурки, многие не увидели бы ее в этом узоре, нужно очень внимательно смотреть. Есть еще одно пятно, я сначала не мог понять, что это, а потом его края стали шире, и получился человеческий зад, как будто кто-то непонятный развернулся ко мне задом. Я не должен так думать».
На стенах можно рисовать и войну, но это по-своему опасно: уже в следующий миг вместо нарисованной битвы начинается настоящая схватка между подростками. Как несложно догадаться, заканчивается она разбитой головой — что в очередной раз демонстрирует, насколько тонкая грань пролегает между детством и насилием. Совершаемые хунвейбинами странные и страшные акции служат своего рода подражанием героическим подвигам поколения революционеров — представителей которого, правда, сами они почти уже не застали.
Еще один рассказ посвящен перекличке с великой китайской литературой — классическим романом «Сон в красном тереме» и его героиней Линь Дайюй, умершей от туберкулеза. Герой-рассказчик автор влюблен в девочку:
«Я сказал, что мне больше не нужны фантики, и предложил ей выбрать любые из них, она радовалась и одновременно немного стеснялась — это напомнило мне „Сон в красном тереме“».
Герой пытается сфотографировать ее, не зная даже, что в фотоаппарат необходимо заправлять пленку. Но девочка уезжает в горы, где ее осужденный отец отбывает трудовую повинность, работая в шахте, и в конце концов забывает литературный пекинский диалект, на котором изъяснялись герои «Сна в красном тереме».
В рассказах Цзоу Цзинчжи упомянуты и «русские» (настоящими «советскими» считали себя китайцы). Думается, это не столько отсылка к общему опыту социалистического строительства — все-таки речь идет о годах «культурной революции», когда отношения КНР с СССР были весьма напряженными, — сколько напоминание о соцреализме как важнейшем методе художественного творчества.
Герои Цзоу Цзинчжи постоянно каются в своем пристрастии к индивидуализму, и сегодня в этом можно усмотреть, пожалуй, один из самых удивительных ключей к пониманию сути социалистического реализма. Предельная задача коллективизма и в истории, и в тексте, который ее отражает, состоит в том, чтобы стереть всякое индивидуальное начало. То есть текст должен быть построен таким образом, чтобы в каком-то смысле его мог написать каждый из членов коллектива. Отсюда при чтении «Дома номер девять» возникает впечатление и хорового начала, и общей фрагментарности рассказов, особенно если помнить о том, что каждый из них посвящен какой-то одной теме, — но вместе они составляют единое целое.
Однако какой же вывод с точки зрения «перековки сознания на социалистический лад» можно сделать, ознакомившись с отдельными эпизодами великой и трагической истории «культурной революции»? Здесь читателей «Дома номер девять» ждет, возможно, самое удивительное открытие. Дело в том, что ценности, которые хунвейбины стремились привить такими чудовищными способами, были вообще-то самыми обычными: скромность, желание помогать другим, готовность к самокритике и исправлению найденных в себе недостатков. Чем не путь столь популярного ныне самосовершенствования? К сожалению, он неизменно сопровождался ударами цитатником Мао по лбу.
Цзоу Цзинчжи не дает окончательного ответа на вопрос о роли «культурной революции» в истории КНР, однако его книга — очень важное приглашение к размышлению. И тот факт, что такие тексты — как и «Четверокнижие» Яня Лянькэ — появляются в современном Китае, лучше всего свидетельствует о ведущейся в этой стране серьезной работе с исторической памятью и травмой.
Фото в начале материала: Cultural Revolution Ceramics