«Я оставался в той же нелепой позе, в которую меня поставила судьба»
О книге Фёдора Кандыбы «Я был убит под Вязьмой»
Под самый конец прошлого года Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге выпустило автобиографический роман «Я был убит под Вязьмой» Фёдора Кандыбы (1903–1948), забытого ныне советского журналиста и прозаика. Книга об отступлении, оккупации и освобождении, подготовленная к печати еще в 1944 году, добралась до читателя только сейчас — с подробными комментариями и научным аппаратом. В том, какими языками — и почему именно ими — этот роман говорит о войне, попытался разобраться Борис Поженин.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Фёдор Кандыба. Я был убит под Вязьмой: роман-дневник. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2026. Подготовка к публикации, комментарии А. Б. Воронина. Содержание. Фрагмент
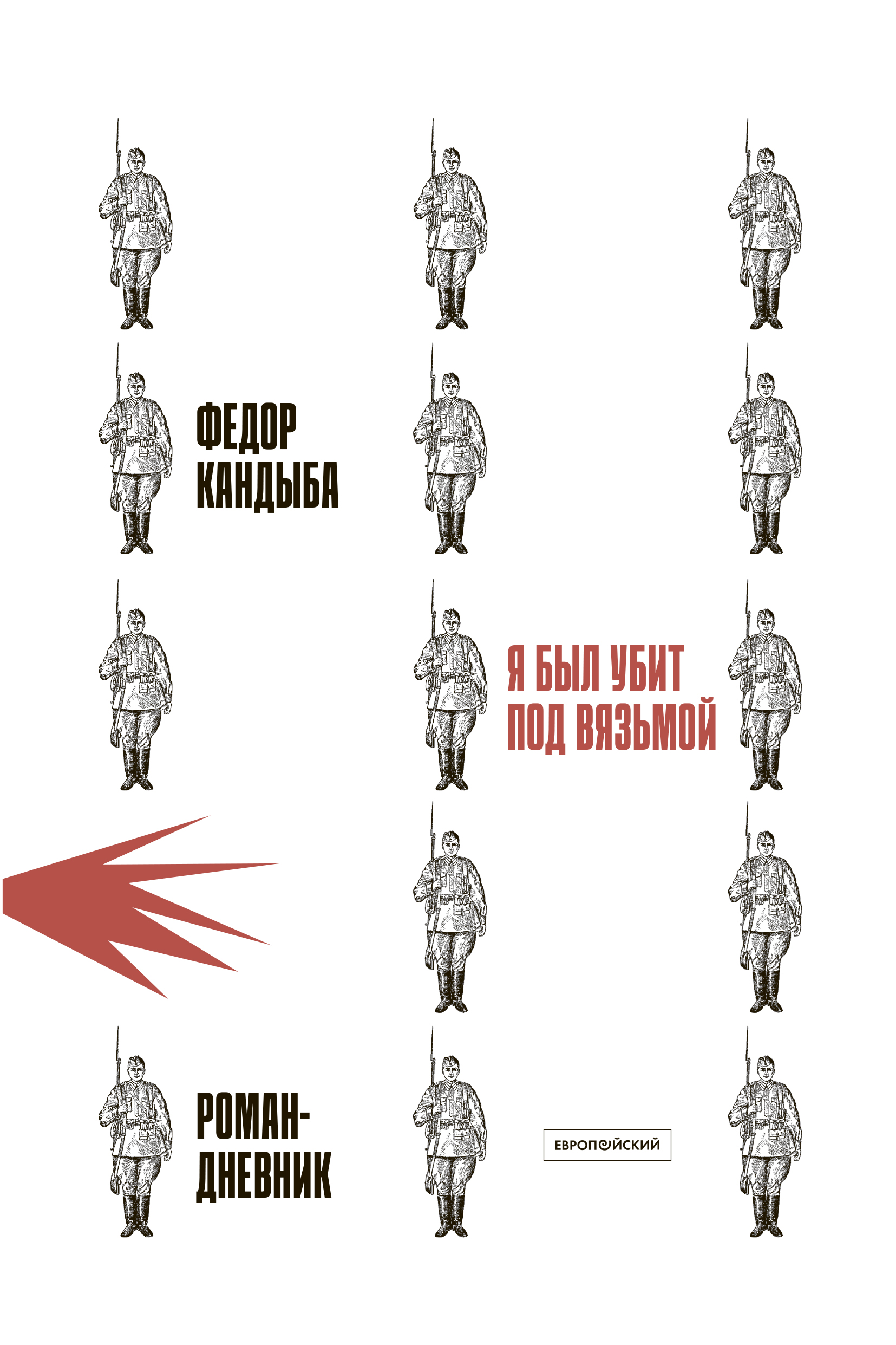
Ради мечты человек готов пойти на многое. Он может работать за троих, терпеть лишения, скрывать прошлое, менять взгляды, подстраиваться, лукавить — словом, делать все то, что поможет ему приблизиться к цели. Однако решающее слово всегда останется за чем-то или за кем-то иным.
У журналиста Фёдора Кандыбы была заветная мечта — стать членом Союза писателей. Он освещал успехи сельского хозяйства и машиностроения первых пятилеток, писал научно-популярные книжки для детей, сочинял повести про стахановцев. Послужному списку подающего надежды соцреалиста не мешало даже непролетарское происхождение: отец Кандыбы был известным харьковским врачом, успевшим в начале 1910-х годов пожить с семьей в Германии. Но об этом Фёдор, выучивший там немецкий язык, предпочитал умалчивать.
В начале Большого террора отца Кандыбы обвинили в связях с польскими националистами и расстреляли в Харькове. Это не повлияло на быт сына, к тому моменту переехавшего в Москву, однако существенно снизило его шансы попасть в Союз писателей. И когда началась война, Кандыба — вообще-то не подлежавший мобилизации по здоровью — в рамках писательской роты ушел в ополчение. Был ли это чистой воды героизм или попытка подправить биографию, омраченную расстрелом отца, возможность выслужиться ради потенциальной корочки Союза писателей? Вопрос открытый.
Ранней осенью 1941 года Фёдор Кандыба попадает в Вяземский котел, чудом выживает и тысячу километров пешком идет на родину — в оккупированный немцами Харьков. Здесь он остается вплоть до освобождения города в 1943 году, а затем уезжает в Москву и подает заявление о вступлении в СП СССР. Чиновники решили отложить процедуру до появления в печати большой книги Кандыбы, написанной за время войны, — романа «Я был убит под Вязьмой».
Миф и война
Историк А. Б. Воронин, подготовивший этот текст к печати в 2025 году, указывает на несоответствие книги официальному советскому дискурсу о Великой Отечественной войне. По его мнению, особенно это касается автобиографического компонента — «очень несоветского», совершенно отличного от «стиля патриотического репортажа» тех лет. Однако при чтении «Я был убит под Вязьмой» подобного ощущения не складывается.
Хотя жанр книги и определен как роман-дневник, примет дневника в нем немного. Скорее это роман-репортаж, причем с весьма четкой структурой: герой-рассказчик, развитие сюжета, второстепенные персонажи и даже вставные новеллы. В этом смысле «Я был убит под Вязьмой» весьма органично вписывается в ряд типичной, идеологически выверенной, военной прозы СССР и является прежде всего документом своей непростой эпохи.
Так, почти всегда в романе субъективные переживания героя поглощаются патриотической моралью: «О смерти мы не думали. У каждого в сердце было: война — это я, защита Москвы — это я <…> Мы переносили то, что выпало нам на долю, зная, что нас больше, мы сильнее и верх все равно в конце концов будет наш, потому что мы правы». Это не значит, что сказанное — ложь, однако правда здесь общественная, а не личная. Из-за этого описание реальности в книге Кандыбы очень часто уступает место конструированию мифа.
Практически любое проявление витальности персонажей — обычных людей в тяжелое время — воспринимается как предательство, если не касается войны напрямую. Вот в оккупированном Брянске главный герой встречает симпатичную девушку, которая просто шагает по улице: «Это была обычная красивая брянская девушка, идущая в выходной день на танцы <…> И именно поэтому она была страшной. Она казалась мертвой, наряженной маской смерти. Блеск глаз был преступлением, улыбка — предательством, розовое лицо — изменой народу». Но действительно ли такая категоричность соответствовала живой жизни?
В пространстве романа почти нет и не может быть места человеческим слабостям. Когда в одной из деревень, живущей зажиточно по военным меркам, главному герою предлагают остаться и работать старостой (теплое местечко!) — он, разумеется, отказывается. Рассказчик попросту не имеет права на крышу над головой: «Мне было тепло и хорошо, я охмелел от самогона, но согласиться на это предложение я не мог. Меня не привлекали удобства сытой жизни и спокойного ожидания лучших времен: я бы повесился сам, если бы остался здесь». Но опустим высокие слова и спросим по-человечески: почему?
Такая тема, как коллаборационизм на оккупированных территориях (Брянск, Харьков), в романе, конечно же, табуирована. Сюжетов, касающихся хоть какого-то взаимодействия с оккупантами вне рамок принуждения и угнетения, в книге почти нет. Сознательно, по своей воле, ни один человек не будет даже разговаривать с представителями немецкой власти. Никто из харьковчан поэтому никогда не клюнет на приманку вербовочных бюро, обещающих сытую жизнь на работе в Германии: «Несознательные рабочие предпочитали мерзнуть и пухнуть с голоду в мрачном прифронтовом городе».
Никаких исключений.
Враг, как и было сказано
Логично, что изображение противника в книге «Я был убит под Вязьмой» тоже подчиняется дискурсу патриотичного военного репортажа. Если Кандыба пишет о немцах, то почти всегда как о недалеких, неотесанных, необразованных, стремящихся к наживе. Это не люди, а враги, чье описание сошло со страниц советских газет и агитплакатов. Взять, например, немецкого инженера Бергера, назначенного прорабом:
— Это кто, Ленин? — спросил он, указывая на бюст Пушкина на полке.
— Пушкин, господин Бергер.
— Слышал, слышал. Это который по Волге с княжной ездил. Про него песня есть.
— Нет, то Разин. А это Пушкин, великий русский поэт.
— Ах, знаю-знаю. Этот тот, которого большевики расстреляли в Чека. У нас о нем фильм был.
— Да нет же. Он погиб после дуэли сто лет назад.
— После дуэли? Значит, он принадлежал к порядочному обществу. Очень интересно…
Подобный диалог производит странное впечатление. Если роман автобиографичен, то насколько точно Кандыба воспроизводит беседу? Действительно ли инженер из Германии не знает, как выглядит Ленин, но знает, что такое ЧК? Уж не карикатура ли это?
Отдельное внимание уделено ненасытной (какой же еще) жадности немцев. Обычные солдаты ищут часы и тут же их продают, фельдфебели сбывают казенные продукты и спиртное, офицеры оперируют целыми грузовиками продуктов. Впрочем, среди них могут встречаться знатоки искусства, но только обшаривающие квартиры и музеи в поисках Репина, Куинджи, Айвазовского для генералов.
Более того, даже общеизвестная машина пропаганды нацистов в романе — пустышка: «Немцы не слишком большие мастера пропаганды. Их радио, газеты и листовки сплошь и рядом несли такую смехотворную чушь, что она обращалась против них же. Их сила была только в упорстве и методичности». То есть жители оккупированного Харькова, на полтора года оставленные без привычных источников информации, совершенно не поддавались влиянию фашистских медиа?
Кандыба пишет, впрочем, что почти все (!) проигнорировали приказ немцев сдать радиоприемники и тайком слушали советское радио. Но в условиях оккупации за это грозил расстрел. Чуть дальше автор все-таки смягчает категоричность и говорит: чтобы не поддаться пропагандистскому одурманиванию (значит, оно было), людям требовалась ясная голова и твердое сердце: «И народ обладал этой ясной головой и этим твердым сердцем».
Никаких исключений.
Искренность самоцензуры
Но рассматривать «Я был убит под Вязьмой» только как соцреалистический репортаж о доблестях, подвигах и славе все-таки неправильно. В книге достаточно любопытных фрагментов, которые описывают войну в «непарадном» виде. Эти сюжеты прорываются сквозь официозный дискурс романа, как травинки через асфальт, и поражают беззащитностью, неприглядностью, искренностью.
Взять главного героя-рассказчика. В ряде моментов отчетливо заметно, как героическое его амплуа отходит на второй план и обнажается нелицеприятная истина. Такова, например, рефлексия по поводу одной из контузий: он потерял сознание от взрыва, а когда очнулся, обнаружил себя стоящим на четвереньках — с согнутой головой, уперевшейся в землю.
Это воплощение животного ужаса и безнадежности; позиция молящегося и зажмурившегося от страха; место человека на войне. Герою суждено еще не раз вспомнить этот момент в будущем: «Я оставался в той же нелепой позе, в которую меня поставила судьба». В позе стоящего на коленях и боящегося открыть глаза.
Это касается и жизни в оккупированном Харькове в целом. Люди, здесь оказавшиеся, были отброшены на сотни лет назад, в допетровскую стынь. «Раньше здесь делали огромные мощные электрические машины, расщепляли атомные ядра в лабораториях, писали книги, учились, жили. Теперь только жили, верней, доживали. <…> В лабораториях, где велись атомные исследования, помещались немецкие гаражи и конюшни. Книгами и мебелью топили печи». Культурная стагнация, оторванность от мира, голод и холод, страх неизвестности — вещи, которых в оккупации попросту не избежать.
«Украинский Ленинград», как называют Харьков в романе, подвергся и информационной блокаде: почти никаких вестей с большой земли сюда не поступало. Но жить в абсолютном неведении невозможно, и дефицит реальных сводок восполнялся многочисленными гадалками и предсказателями. Многие из них занялись этим ремеслом буквально накануне, но уже стали сверхпопулярны: «К иным гадалкам надо было записываться за месяц <…> На базаре было так много гадалок на картах, на бобах и на кофейной гуще, хироманток, узнававших будущее, и слепых, предсказывавших по толстым книгам…»
Отдельное внимание стоит уделить купюрам в тексте — фрагментам, скорее всего вычеркнутым самим Кандыбой из оригинальной машинописи и восстановленным в издании Европейского университета. Внимательный читатель, вероятно, попытается раскрыть логику самоцензуры и понять, почему автор зачеркивал те или иные слова, предложения и даже целые абзацы. Только сделать это непросто.
Часть купюр, к примеру, были чисто стилистическими. Кандыба как будто избавлялся от ненужных (на его взгляд) описаний или уточнений: «Я шел вдоль трамвайной линии быстро, насколько хватало сил». Другая часть содержала весьма интересные, хотя местами и трагикомические подробности. Такова история про слона из харьковского зоосада. Сначала его хотели как-то использовать для защиты города, но не случилось, зато слон втихаря съел мешок картошки. Затем его решили убить и целую зиму есть мясо, а шкуру обменять, однако животное не поддалось ни на удары ножом, ни на коллективное удушение. «Слону надоело дожидаться, пока его убьют, он сломал двери сарая и ушел обратно в зоологический сад, где теперь и живет снова», — отмечал автор, однако до предполагаемого читателя всю эту историю решил не доводить.
Купюрам Кандыбы, что странно, подвергались даже «правильные» с точки зрения идеологии сюжеты. Описывая неудачи немцев под Сталинградом, рассказчик отмечал: «Никакие пышные разговоры о том, что потомки Зигфрида, ведущие битву подобно Нибелунгам, должны победить, не могли прикрыть простого факта, что наступление окончилось и военное счастье отвернулось от немцев». Но и этот пассаж почему-то оказался вычеркнутым.
***
Роман «Я был убит под Вязьмой», одобренный журналом «Знамя» к печати в 1944 году и готовый стать транзитом Кандыбы в Союз писателей, был неожиданно завернут. Один из критиков написал разгромную рецензию, обвинив рассказчика, персонажей и даже Красную армию в позорной беспомощности перед немцами. В рассказах об отступлении и оккупации автор, считал рецензент, изобразил «покоренных» людей — и это оставило «тягостное и тяжкое впечатление». Патриотический, идеологически верный, совершенно советский роман о войне все-таки не прошел цензурную проверку.
Кандыбе предписали существенно переработать книгу (отсюда, вероятно, и возникшие купюры). Однако у человека, чудом не погибшего в мясорубке вяземского котла и полтора года прожившего в оккупированном Харькове, на пересборку своего magnum opus не осталось сил. Еще пару лет Кандыба пытался, и даже успешно, пробить несколько невоенных текстов в печать, однако «Я был убит под Вязьмой» так и не опубликовали. В 1948 году писатель скончался в возрасте 45 лет.
P. S. Не до конца ясно, к слову, исполнилась ли мечта Фёдора Кандыбы вступить в СП СССР. Документ от 1961 года, приводимый в предисловии к книге, все-таки именует Кандыбу «покойным членом Союза писателей СССР» — как будто этой «медалью» его наградили посмертно.