«Я бы предпочел отказаться»
Пять книг, чтобы настроиться на рабочий лад
Этюд по социологии религии и экономики, корпоративный хоррор, хроники неотвратимой мести, лекции о посткапиталистическом желании и случай одного упрямства: в последнюю пятницу лета 2025 года редакторы «Горького» советуют книги, которые точно помогут переключиться с отпускного настроения на рабочий режим.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Макс Вебер. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: Центр гуманитарных инициатив; СПб.: Университетская книга, 2016. Перевод с немецкого М. Левиной, П. Гайденко, А. Филиппова. Содержание
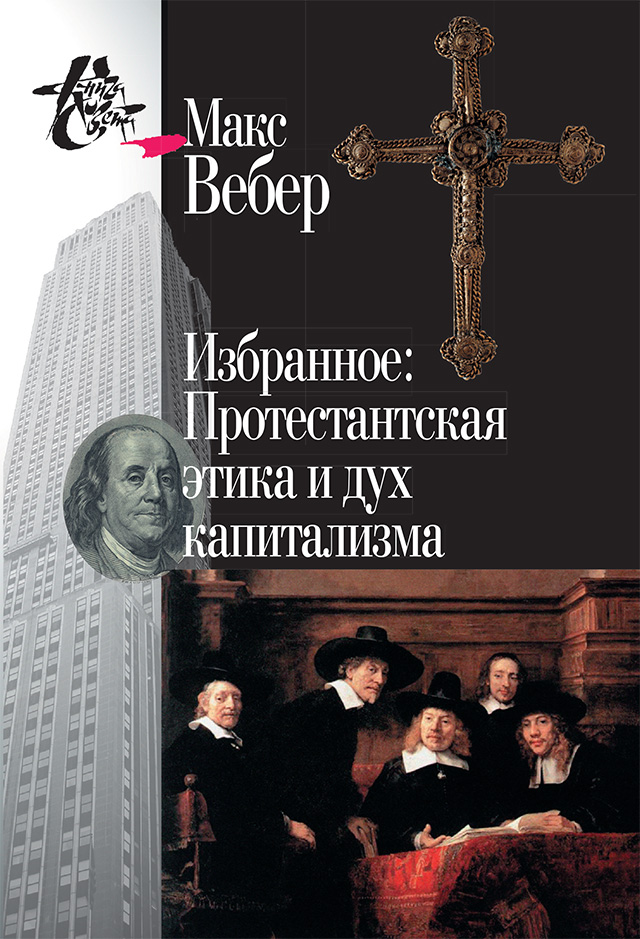
В 1904-1905 годах увидела свет, вероятно, самая известная работа Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», которая ознаменовала выход знаменитого социолога из периода тяжелейшей душевной болезни и вместе с тем его вступление на путь к мировой славе. Все знают, о чем эта книга: Реформация вызвала к жизни капитализм, следование нормам протестантской этики вело к успеху тех, кто строил капиталистическую систему хозяйственной организации, — потому-то по сей день наибольшее процветание мы видим именно в протестантских странах.
На самом деле такое понимание веберовского тезиса совершенно карикатурно. Вебер нигде не говорит, что религия создала капитализм или служит его единственной причиной. Он утверждает лишь избирательное сродство между этикой внутримирской аскезы и идеей призвания, согласно которой повседневный труд может быть служением Богу, а успех в нем — знаком Божьей милости, который, впрочем, ничем не гарантирован (первые капиталисты жили в постоянном страхе, что их успех не служит свидетельством расположения Всевышнего, и, к сожалению, их потомки этот страх совершенно утратили). Собственно, именно эти черты религиозного образа жизни наилучшим образом подошли капиталистической организации хозяйства.
А дальше произошло интересное, о чем уже мало кто помнит: мирские блага из средства, условия хорошего труда во славу Божию, сознательного призвания, стали самоцелью — таким образом, из капиталистического этоса изъяли его христианский фундамент, а обычные святые стали заурядными чертями. Вывод, который из этого можно сделать, — ни в коем случае нельзя забывать, ради чего ты работаешь, тем более если ты делаешь это, не жалея сил.
«По Бакстеру, забота о мирских благах должна обременять святых этого мира не более, чем „тонкий плащ, который можно ежеминутно сбросить. Однако плащ этот волею судеб превратился в стальной панцирь“».
Томас Лиготти. Пока мой труд не завершен. Три истории о корпоративном ужасе. М.: АСТ, 2024. Перевод с английского Григория Шокина, Александра Одношивкина
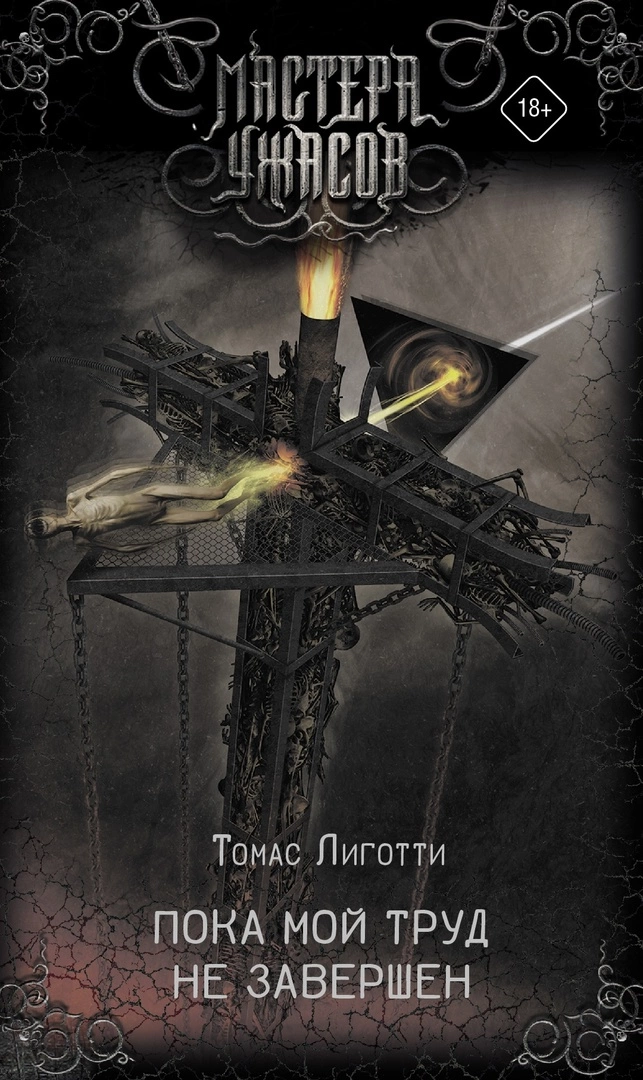
Затравленный коллегами офисный клерк идет в оружейный магазин, а потом на работу, но попадает под колеса автобуса. Смерть, впрочем, не препятствие для того, кто искренне жаждет возмездия. Тем временем в Городе Молоха, окутанном ядовитым туманом, каждый день гибнут топ-менеджеры градообразующего предприятия, а насколько могущественная, настолько безликая корпорация интегрирует системы искусственного интеллекта в производственные процессы, превращающие жизнь в ночной кошмар.
В трилогии «Пока мой труд не завершен» (My Work Is Not Yet Done) утонченный интеллектуал и мастер «странного» ужаса Томас Лиготти обращается к нетипичному для него жанру сплаттерпанка и социальной сатиры. Однако внешняя простота и избыточная кровавость не должны смутить вдумчивого читателя: в трех новеллах разного объема сумрачный дейтройтский гуманист развивает свою любимую тему, знакомую всем нам по таким шедеврам, как «Последний пир Арлекина» (The Last Feast of Harlequin) или «В незнакомом городе, в незнакомой стране» (In a Foreign Town, in a Foreign Land). Тема эта — превращение человека из субъекта бытия в статистическую погрешность, бездушный манекен, заброшенный в мир, чтобы некоторое время в нем просуществовать и умереть, растворившись в забвении.
Прежде Лиготти обращался к пределам абстракции, чтобы описать, как можно соорудить могилу для покойника из его же мертвого тела или, например, почему превращение в палец возлюбленной — самое нормальное желание из доступных в нашей ненормальной вселенной. На этот раз он не улетает в метафизику и обнаруживает подлинный ужас в самом обыкновенном офисном здании через дорогу. Расчеловечивание в нем идет полным ходом, никто не останется личностью.
«...И если бы я был полон решимости питаться исключительно мясом собственных подчиненных, не имея доступа к персоналу других выживших руководителей или любому другому персоналу в принципе, самой большой проблемой, которая могла бы возникнуть, было бы поддержание каждого из них в съедобном состоянии, а также регулирование моего потребления их мяса. Если встанет задача попытаться сохранить им жизнь, я вполне мог бы ограничиться употреблением только тех ресурсов их тел, что являются возобновляемыми — например, крови. Несмотря на это, я мечтаю об их подмышках и локтях... как мужских, так и женских. Я думаю, в эру каннибализма и выживания любой ценой наиболее морщинистые части человеческого тела — наиболее ценные и вкусные».
Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. М.: АСТ, 2019. Перевод с французского Л. Олавской, В. Строева
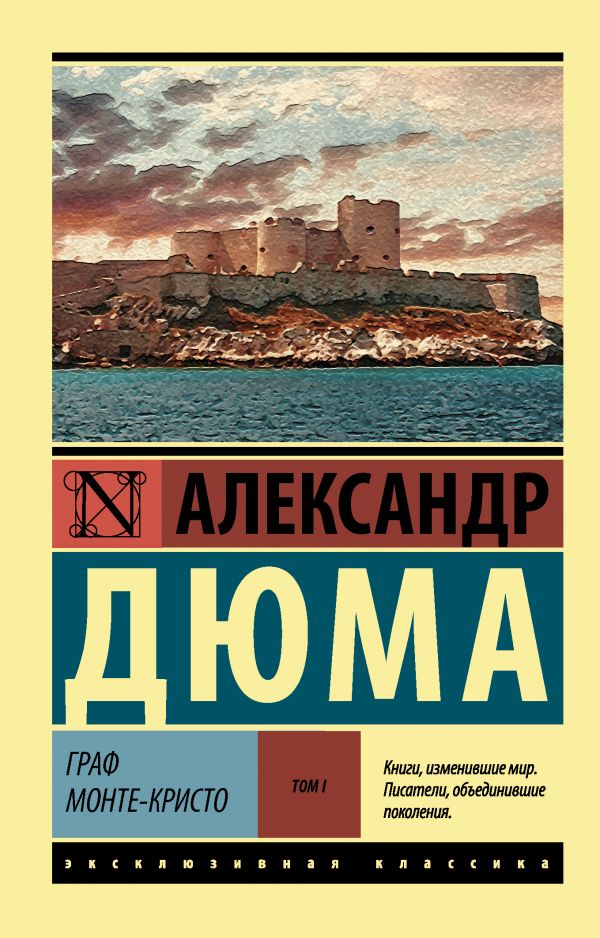
Лучший способ плавно выйти из так называемого отпуска — сделать вид, что отпуск продолжается. Для этого совсем необязательно устанавливать дома лежак с тропическим коктейлем, достаточно просто углубиться в чтение какого-нибудь старого авантюрного романа, желательно огромного, поскольку именно за такие книги лучше всего браться во время летних вакаций. Мы же со своей стороны рекомендуем вам перечитать или прочесть впервые «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма, произведение эпическое, пленительное и вызывающе несовременное. Сюжетная его канва хорошо знакома даже тем, кто предпочитает вообще никогда ничего не читать, но все же напомним в общих чертах: юного моряка Эдмона Дантеса накануне его свадьбы арестовывают по ложному обвинению в связях с бонапартистами и заключают в мрачном замке Иф, где он должен провести остаток своих дней, но спустя четырнадцать лет ему чудесным образом удается не только бежать оттуда, но и сказочно разбогатеть. Теперь он уже не Эдмон Дантес, а загадочный граф Монте-Кристо, как будто бы впервые прибывающий в Париж и очаровывающий высший свет, в котором задают тон предатели, обрекшие его на пожизненное заключение и разлучившие нашего героя с возлюбленной. Монте-Кристо будет мстить, и месть его будет ужасна, но отнюдь не так скоропостижна, как может показаться зрителям популярного советского фильма «Узник замка Иф»: он плетет хитроумную сеть, в которой все его недоброжелатели запутываются и гибнут скорее из-за собственных пороков, чем из-за коварства графа. История эта поражает своей романтической опереточностью, от благородства одних героев щиплет глаза, а от порочности других стынет кровь в жилах, роковые совпадения не оставляют сомнений в том, что зло будет попрано, а добродетель вознаграждена, и все равно в этот мир возвращаешься пусть и с иронической улыбкой, но как будто к себе домой.
«В этом мире нет ни счастья, ни несчастья, то и другое постигается лишь в сравнении. Только тот, кто был беспредельно несчастлив, способен испытать беспредельное блаженство».
Марк Фишер. Посткапиталистическое желание. Последние лекции. М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. Перевод с английского Дмитрия Безуглова, Лены Сон. Содержание
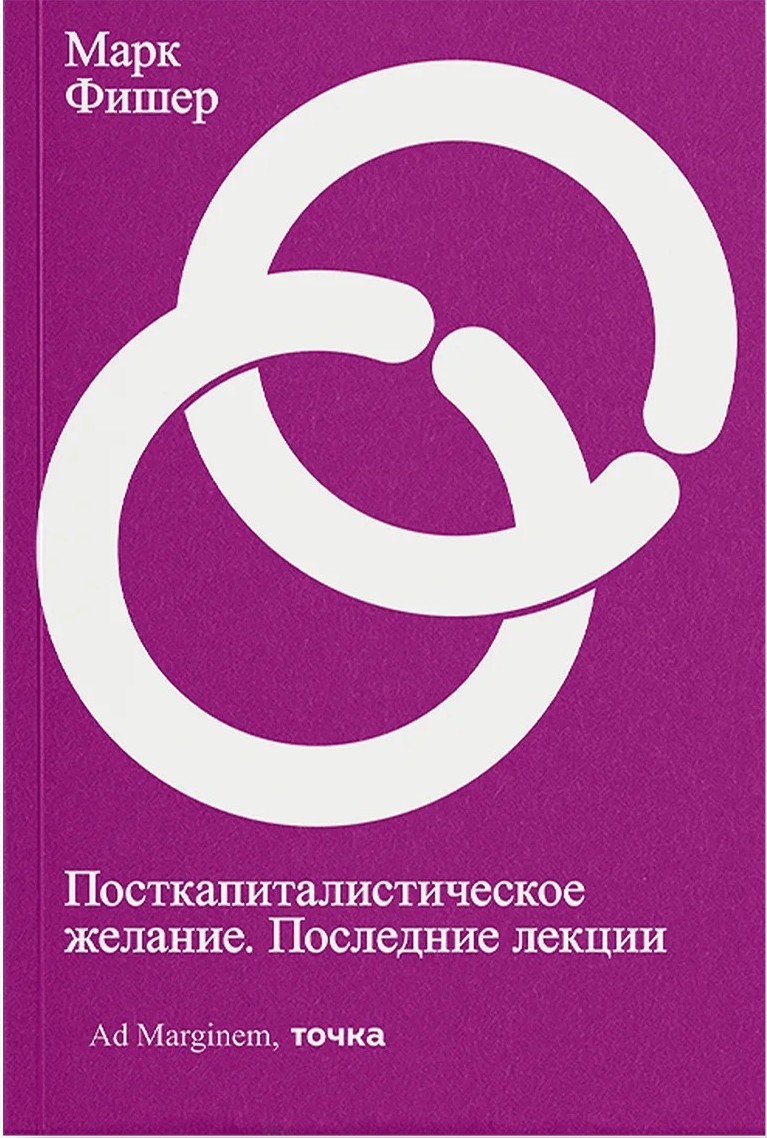
Лучшее чтение для тех, кто хочет исцелиться от трудоголизма. Незадолго до скоропостижной и добровольно выбранной смерти (решительно осуждаем!) английский философ и музыкальный критик Марк Фишер организовал своим студентам семинар, посвященный тому, как машинерия капитализма вынуждает нас желать того, что нам не нужно. Тема вроде бы не нова, однако Фишеру удалось максимально внятно «подсветить», почему работа не нужна, а безусловный базовый доход — очень нужен.
Критики ББД из праволиберального политического лагеря очень любят повторять мантру о том, что базовый доход превратит бедных в неимущих, отбив у них желание трудиться и зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать деньги, становиться богаче и платежеспособнее, а главное — продуктивнее. Фишер, грубо говоря, замечает: подобно тому, как раздельный сбор мусора не имеет смысла, если он не введен повсеместно, так и безусловный базовый доход никак не улучшит положение трудящихся, если он вводится локально, в порядке эксперимента. Согласно Фишеру, главный актив капитала — неуверенность человека перед завтрашним днем. И даже минимальный прожиточный минимум, предоставленный каждому, нанесет решительный удар по чудовищному механизму, заставляющему обменивать свою единственную жизнь на какую-то бессмысленную суету, не приносящую пользу ни тебе, ни окружающим.
Но самое интересное, разумеется, не это, а то, как гражданин Фишер ловко рассказывает своим студентам о том, почему реклама компаний Apple и Levy’s — худшее, что могло случиться с человечеством, просто-таки симуляция ада на земле.
«Серая масса „роботов“ топчется, подчиняясь командам, которые изрыгает говорящая голова, — это отсылка к 1984 Оруэлла. Замечу, что наследники Оруэлла были не в восторге от рекламы, но это другая история. Реклама берет образы, годами относящиеся к соцблоку, и соотносит их с образами корпораций типа IBM, которые тогда правили компьютерной индустрией. Apple позиционировала себя как нечто новое, как цвет, проникающий в этот серый, унылый бюрократический мир. Apple — новое. Что интересно, Apple — женщина. Цвет врывается в серый мир бюрократических дольменов, и рекламное сновидение уравнивает Советский Союз и IBM, соединяя их в унынии. Из этой монолитной, серой, скучной системы контроля пробьется новый мир. Так и случилось! По-своему это пророческая работа. И даже больше, чем пророческая; можно сказать, это хайповерие. Она помогла воплотить то, что описывала».
Герман Мелвилл. Повести. М.: Художественная литература, 1977. Перевод с английского М. Лорие
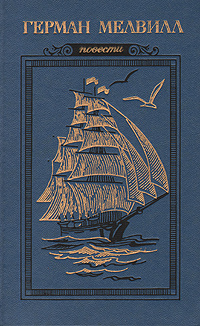
Конец лета — просто еще один повод перечитать повесть «Писец Бартлби», которую, впрочем, следует перечитывать регулярно и без всяких к тому поводов.
Рассказчик, добродушный осторожный юрист с Уолл-стрит, нанимает в свою контору писца Бартлби. Сначала тот работает безупречно, но вскоре перестает что-либо делать, а на любую просьбу отвечает: «Я бы предпочел отказаться» (футболку с этой надписью одно время любил носить Славой Жижек). Рассказчик пробует жалость, уговоры, деньги — но тщетно: сдвинуть тишайшего, ничего не делающего Бартлби с мертвой точки, оказывается невозможным. В конце концов он меняет офис, Бартлби, который живет прямо в конторе, остается в старом помещении. Вскоре его как бродягу сажают в тюрьму, где он перестает есть и умирает от истощения.
Вот, собственно, и всё.
Трактовка случившегося остается полностью на совести читателя этого загадочного, но вместе с тем нестерпимо ясного произведения — однако при желании можно опереться на многочисленные интерпретации философов в диапазоне от того же Жижека и Агамбена до Делёза и Дениса Сивкова, всех как один ошарашенных силой недеяния великого писца.
«— Я бы предпочел отказаться, — повторил он.
Я пристально посмотрел на него. Худое лицо его было невозмутимо; серые глаза смотрели спокойно. Ни одна жилка в нем не дрогнула. Будь в его манере держаться хоть капля смущения, гнева, раздражительности или нахальства — словом, будь в нем хоть что-то по-человечески понятное, я бы, несомненно, вспылил и велел ему убираться с глаз долой. Но сейчас мне это и в голову не пришло — это было бы все равно как выгнать за дверь мой гипсовый бюст Цицерона. Я постоял, глядя на Бартлби, который тем временем уже опять углубился в переписку, потом вернулся к своему столу. Это очень странно, думал я. Как же мне поступить?»