В сердце леса
О книге Эдварда Томпсона «Виги и охотники»
Рита Томас
В 1723 году в Англии был принят Черный акт, который вводил смертную казнь за охоту в частных владениях. Можно предположить, что страна в тот момент страдала от разгула браконьеров-простолюдинов, однако подоплека этого закона куда сложнее и интереснее. В чем именно она заключается, показал в революционном исследовании историк Эдвард Палмер Томпсон. О его книге, предвосхитившей оптику микроистории, рассказывает Андрей Волков.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Эдвард Палмер Томпсон. Виги и охотники: происхождение Черного акта 1723 года. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Перевод с английского Нины Лужецкой. Содержание, фрагмент
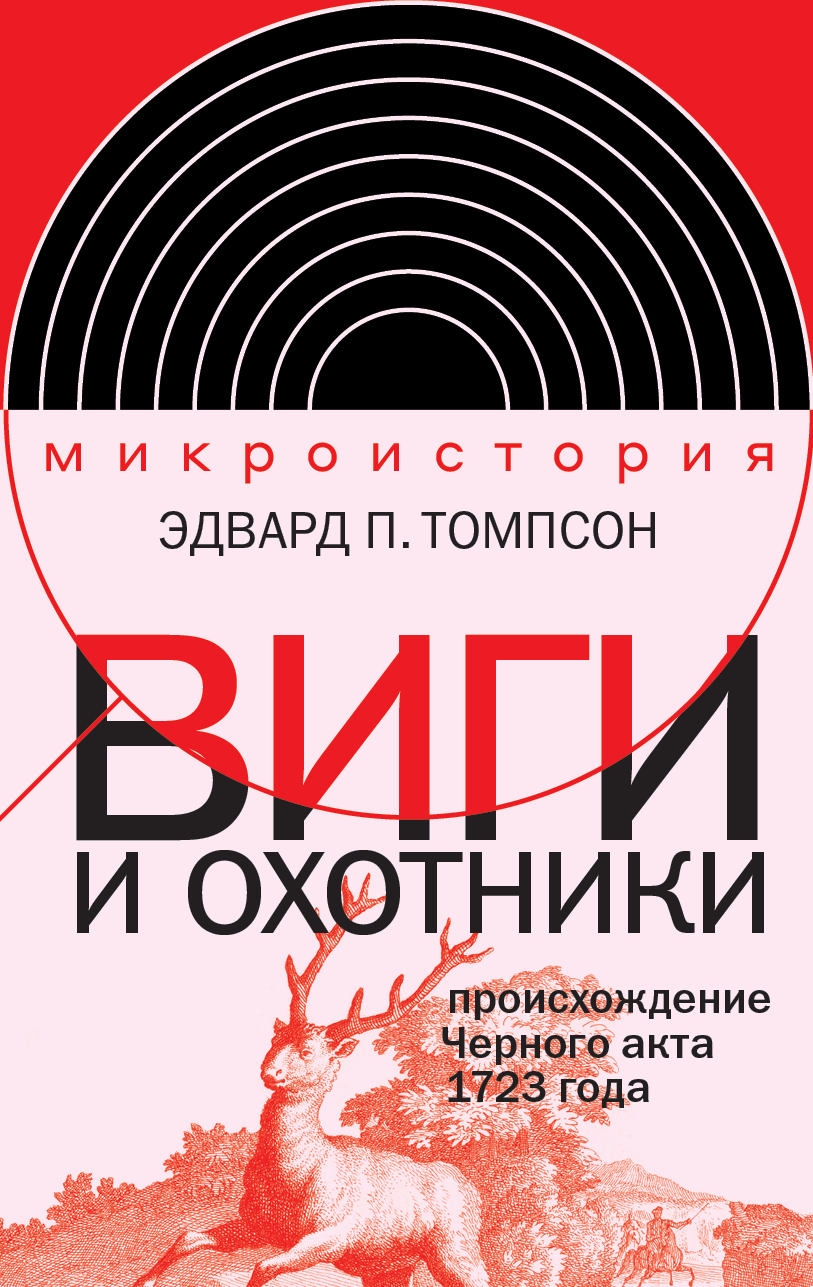
В мае 1723 года британский парламент принял «Акт для более действенного наказания безнравственных и злонамеренных лиц, которые ходят вооруженными и замаскированными и причиняют ущерб и насилие особам и собственности подданных Его Величества, и для скорейшего привлечения преступников к суду», получивший известность как Закон об уэлтхэмских Черных, или Черный акт. Он предписывал наказание в виде смертной казни за весьма широкий спектр правонарушений, а срок его действия, первоначально составлявший всего три года, раз за разом продлевался.
Согласно документу, если кто-либо, будучи вооружен и зачернив лицо (или использовав другую маскировку), убьет или ранит «в каком-либо лесу, охотничьих угодьях, парке, загоне или на участке, обнесенном любой стеной, палисадом или иной оградой» благородного оленя или лань, то за такое деяние он подлежал наказанию в виде смертной казни. За отлов кроликов, зайцев, добычу рыбы ждала та же участь. За убийство и увечье оленя открыто и безо всякого оружия в королевском лесу охотнику тоже была уготована виселица. Но и это еще не всё. Список преступлений дополнялся разрушением запруд, уничтожением скота, вырубкой деревьев, поджогом дома, сарая, стога сена, умышленной стрельбой в любого человека, рассылкой писем с требованием денег, дичи или ценностей, а также освобождением силой из-под стражи лица, обвиненного в одном из вышеназванных злодеяний. В акте были указаны и другие меры, которые сильно упрощали осуществление возмездия со стороны правосудия и властей, а также расширяли категорию преступлений, подпадающих под их действие. Закон предполагал даже коллективную ответственность жителей той или иной местности, которым приписывалось возместить ущерб. При этом Черный акт широко трактовал разнообразные провинности, имел расплывчатые формулировки и содержал столько положений о преступных деяниях, что сам бы мог составить отдельный уголовный кодекс. Жителям лесных районов Соединенного Королевства требовалось изрядно постараться, чтобы увернуться от его действия: охота или рыбалка могли привести на эшафот.
До XVIII века, по крайней мере в Англии, кража скота не каралась смертью, как и шантаж и вымогательство, а порча рыбных прудов и вырубка деревьев не были уголовно наказуемыми деяниями. Появление подобного документа должно было свидетельствовать о массовом уничтожении лесных богатств Великобритании, повсеместном распространении браконьерства, вымогательства и разгуле преступных группировок в парках и охотничьих угодьях. Леса Британии, вероятно, напоминали один сплошной притон, кишащий бандитами всех мастей, — настоящее царство порока и пренебрежения малейшей добродетелью. Однако, как замечает автор книги о Черном акте, такая «„внезапная чрезвычайная ситуация“, дата которой толком не запомнилась и которая оставила так мало следов в прессе того времени, является недоказуемой, хотя и утешительной гипотезой». Строго говоря, никакой чрезвычайной ситуации в масштабах всей страны и не было. Так чем же было вызвано принятие столь сурового закона? Именно с этим и попытался разобраться Эдвард Палмер Томпсон.
Э. П. Томпсон (1924–1993) принадлежал к плеяде блестящих британских историков-марксистов, внесших значительный вклад в становление «новой социальной истории». Его жизненный путь не был заурядным. Его отец писатель Эдвард Джон Томпсон (1886–1946) некоторое время прожил в Бенгалии в качестве методистского миссионера и преподавателя английской литературы. Здесь в круг его общения входили выдающийся поэт Рабиндранат Тагор и будущий первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру, о котором у Эдварда Палмера сохранились детские воспоминания. Родители историка были ярыми критиками империализма, что не могло не сказаться на воззрениях их сына.
В возрасте восемнадцати лет вслед за старшим братом, подающим надежды лингвистом Уильямом Фрэнком, Э. П. Томпсон стал членом Коммунистической партии Великобритании. В 1942 году вступил в ряды армии Соединенного Королевства и сражался на фронтах Второй мировой войны. Будучи командиром танка, принял участие в боях в Северной Африке и Европе, в том числе и в битве под Монте-Кассино в 1944-м, победа в которой открыла войскам антигитлеровской коалиции путь на Рим. Брату Эдварда Палмера, служившему в Управлении специальных операций, повезло меньше. Его отправили в Болгарию, где, попав в плен, он был расстрелян фашистскими властями. Общественно-политические взгляды Уильяма Фрэнка также сильно повлияли на будущего историка.
После войны Э. П. Томпсон продолжил обучение в Кембридже, прерванное участием в боевых действиях. Ему удавалось сочетать академическую карьеру с политическим активизмом. В этих начинаниях его сподвижницей была супруга Дороти, также активистка и историк, исследовательница чартизма. В 1956 году Томпсоны вышли из рядов Коммунистической партии, как и многие ее члены, чему поспособствовали доклад Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС и подавление Венгерского восстания. Однако своим взглядам не изменили, став важными представителями «новых левых». С 1957 по 1959 год Э. П. Томпсон вместе с другим историком-марксистом Джоном Сэвиллом издавал журнал The New Reasoner, который, объединившись с Universities and Left Review, стал знаменитым изданием левого толка New Left Review. На страницах журнала был опубликован ряд текстов, раскрывающих томпсоновскую концепцию «социалистического гуманизма». Поддерживал Эдвард Палмер и зарождающуюся кампанию за ядерное разоружение, а в 1980-е борьба за ликвидацию атомного оружия на время стала чуть ли не основной его деятельностью.
В качестве академического историка Э. П. Томпсон вместе с другими британскими историками-марксистами, включая Эрика Хобсбаума, Кристофера Хилла, Джоржда Рюде, Родни Хилтона, Дону Торр и др., стал ключевой фигурой в формировании «новой социальной истории». Они расширили марксистский методологический инструментарий научными приемами из антропологии, психологи и демографии. Важно подчеркнуть, что ярлык «марксизм» не означает неотступное следование непреложным догмам: исследователи были открыты для взаимодействия со специалистами, придерживающимися иных воззрений и теоретических заимствований из других областей гуманитарного знания и социальных наук. Их взгляд на прошлое — это попытка написать «историю снизу» (history from below — выражение, введенное в оборот самим Томпсоном), т. е. со стороны общества, а не власти, а также стремление увидеть за обезличенными структурами и процессами человека. Обращаясь к проблемам массового сознания, повседневности, разнообразным формам общественного протеста они демонстрировали значение идей, которые не были лишь просто надстройкой над базисом — производительными силами и производственными отношениями. Законы также являются частью сферы идей и с позиций марксизма классического извода могут рассматриваться как инструмент угнетения господствующего класса. Досконально изучив обстоятельства появления Закона об уэлтхэмских черных, Э. П. Томпсон попытался показать, что это совсем не так.
К моменту выхода «Вигов и охотников» на счету историка был биографический труд о британском дизайнере, художнике, общественном деятеле и идейном вдохновителе движения «Искусства и ремесла» Уильяме Моррисе (William Morris: Romantic to Revolutionary, 1955), а также ключевая и наиболее известная работа — «Становление английского рабочего класса» (The Making of the English Working Class, 1963). Изначально текст о Черном акте должен был стать частью сборника статей по социальной истории преступности в Англии в XVIII веке (Albion’s Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth Century England, 1975), редактором которой и был Томпсон. Но исследовательская работа зашла столь далеко, что вылилась в отдельную монографию, первое издание которой увидело свет в том же 1975-м.
Примечательной особенностью труда о «черных» браконьерах стала если не методологическая новация, то во всяком случае необычный (и в своем роде эффектный) прием. Эдвард Палмер намеренно откладывал на последний этап работы над книгой чтение специальной литературы по социальной истории Великобритании первой половины XVIII столетия. Вместо этого он сконцентрировал свое внимание на источниках, проработав колоссальное количество рукописных и опубликованных документов разнообразного характера: от судебных протоколов до памфлетов и поэзии. Он работал так, словно бы был парашютистом, приземлившимся на незнакомой территории, постепенно «осваивая по нескольку ярдов земли вокруг себя» и совершая «свои вылазки во всех направлениях». В результате «историку-парашютисту» удалось показать «историю снизу», высветить нюансы борьбы закона и обычая, центральной власти, местных дворян и жителей лесных территорий Соединенного Королевства за свои права и привилегии. От себя заметим, что «парашютный метод» может и должен быть взят на вооружение специалистами, но строго при условии наличия должной подготовки и квалификации.
Особенно значимым элементом работы Э. П. Томпсона является обращение к широкому социально-экономическому, политическому и культурному контексту эпохи, поскольку «черные» браконьеры не оставили ни манифеста, ни программного документа, которые могли пролить свет на их мотивы, объяснить, чем они руководствовались, нападая на оленей, вырубая деревья и разрушая частные пруды. Соотнесение их деяний с процессами в различных сферах британского общества и государства позволило если не ответить на все возникающие вопросы, то как минимум сделать аргументированные предположения.
А контекст был крайне насыщенным. События на рубеже XVII-XVIII веков имели принципиальное значение для дальнейшего развития страны. Перечислим лишь наиболее яркие: Аграрная революция, Славная революция, принятие Билля о правах, войны Мальборо, заключение англо-шотландской унии в 1707 году, утверждение в 1714-м на престоле Ганноверского дома, а также якобитские восстания (1715 и 1719) и заговоры (1722), имевшие целью вернуть власть Стюартам. В 1720-1721 гг. случился крупный спекулятивный кризис — бум и крах Компании Южных морей, который вызвал как массовые банкротства, так и поспособствовал росту проякобитских настроений и «ослаблению всенародной приверженности Ганноверской династии и ганноверскому правительству». Вместе с тем это еще и начало эпохи Просвещения, время выдающихся интеллектуалов — Исаака Ньютона, Джетро Талла, Кристофера Рена, виконта Болингброка, Джонатана Свифта, Даниеля Дефо, Александра Поупа и др. На этом историческом фоне и заваривается история борьбы с «черными» охотниками вигов, которые прочно утвердились на политическом Олимпе Великобритании.
Для того чтобы досконально разобраться в причинах, заставивших парламент принять устрашающий акт в 1723 году, Э. П. Томпсон подробно рассматривает особенности устройства лесов в Хэмпшире и в Беркшире, а также систему земельного владения и пользования, специфику лесной экономики и хозяйственного уклада, структуры лесной администрации, лесного права и лесных судов. В Беркшире находилась королевская резиденция — Виндзорский замок, куда в свое время летом наведывалась королева Анна Стюарт вместе со всем двором. Занявший после нее престол Георг I из новой Ганноверский династии впервые поохотился в этих местах в 1717-м.
Графства были выбраны Томпсоном не случайно. Если в масштабах всей страны никакого бедствия и засилья браконьеров не наблюдалось, то в местных лесах некоторые беспорядки имели место. Здесь находились не только лесные массивы и парковые угодья, но и огороженные пашни и луга. К примеру, Малый и Большой парки Виндзора принадлежали Короне, а на территории леса располагалось порядка пятнадцати крупных поместий, большая часть из которых оставались в частных руках. Здесь находились земли фригольдеров, арендаторов по обычаю и йоменов, чьи интересы не всегда совпадали с планами представителей локальной знати. Последние по кусочку отгрызали себе владения в виде парков, прудов с правом частной ловли и т. д. В свою очередь, арендаторы непрестанно выдвигали собственные претензии на неограниченный выпас скота, заготовку древесины, торфа и дерна. Они же могли пострадать от оленей и ланей, на которых охотились королевские особы: животные заходили на поля и пастбища, могли нанести ущерб молодым деревьям.
В Виндзорском лесу среди лесных жителей были и незаконные поселенцы, не имевшие никаких официальных прав. В годы существования Английской республики, с 1649 по 1660-й, Большой парк Виндзора был разделен на множество ферм, которые заняли старые солдаты Кромвеля, хотя их права аренды и не пережили Реставрацию. Однако подчеркнем, что те, кого впоследствии обвиняли в «черном» браконьерстве, зачастую были из числа йоменов, а порой и джентльменов, а не одна лишь крестьянская голытьба да закоренелые уголовники.
В Хэмпшире местные лесные массивы были богаты строевым лесом и ланями. Присутствие монарха здесь ощущалось слабо, зато некоторые земли принадлежали церкви: два пожалования были сделаны Короной епископу Винчестерскому. Как итог — нередко споры об общинных правах, включая вырубку леса, разгорались между местными арендаторами и епископом. Были здесь и светские землевладельцы, которые вели свою борьбу с «черными». Таковым был эксцентричный смотритель леса Бир Ричард Нортон, убежденный виг и сторонник режима конституционной монархии.
Что касается управления лесными угодьями, то должности нередко представляли собой теплые места и довольно привлекательные синекуры. После короля высшим должностным лицом был констебль и комендант Виндзорского замка, чьи обязанности, как правило, выполнял его заместитель. Далее по иерархической лестнице следовали главный лесничий и лесной объездчик. Во главе каждого лесного массива (например, Старого Виндзора или Нью Лоджа) стоял аристократ в качестве номинального рейнджера, бейлифа или мастера. К его должности прилагались жалованье, льготы на дрова и дичь и пр. Так, знаменитая фаворитка королевы Анны Сара Черчилль, герцогиня Мальборо, благодаря своему былому расположению при дворе получила пост рейнджера Большого и Малого парков Виндзора. При этом ее случай был нетипичным. Э. П. Томпсон подчеркивает, что, в отличие от большинства других, герцогиня была деятельным и шумным рейнджером, которая вдобавок не выносила лидера вигов сэра Роберта Уолпола, возглавлявшего кабинет министров Великобритании. Именно когда окончательно установилось его политическое господство, и был принят знаменитый Черный акт.
Если должности рейнджера или бейлифа доставались придворным аристократам-вигам, которые могли ни разу не появиться во вверенных им угодьях, то среди судебных лесных чиновников оказывались и местные мелкие дворяне из числа тори. Вдобавок никто не отменял того факта, что представители старых аристократических домов по той или иной причине могли лишиться своих земель, которые переходили в руки новых знатных владельцев. Это неизбежно вело к взаимным претензиям и вражде, а жертвами становились лани и олени. Э. П. Томпсон подробно описывает конфликт между сэром Чарльзом Энглфилдом и миссис Энн Райт, дочерью Фрэнсиса Паулетта и женой преподобного Натана Райта, сына лорда-хранителя Большой государственной печати, который повлек за собой и гибель животных, и судебные дела.
«Черное» браконьерство оказалось сложным феноменом, который, в свою очередь, позволяет выявить в Британии конца XVII — начала XVIII веков места, где проявлялось социальное и политическое напряжение. В какой-то момент охотники стали действовать более организованно, что было связано «не столько с добычей оленины как таковой, сколько с оленями как с символом (и как с реально действующим фактором) власти, угрожавшей их экономике, их посевам и их традиционным аграрным правам». Они не были в полной мере социальными бандитами, которых блестяще описал Эрик Хобсбаум, или же аграрными бунтарями. Как подчеркивал Э. П. Томпсон, в них «есть что-то от обоих типов. Это были вооруженные лесовики, силой утверждавшие то понимание своих прав, к которому привыкли все сельские жители, а кроме того <…> боровшиеся против превращения лесных массивов в частные охотничьи парки, что причиняло ущерб их земледелию, добыче топлива и выпасу скота. А их вооруженные стычки с лесниками начались потому, что те встали на защиту своих рогатых подопечных с усиленной бдительностью и не стеснялись применять оружие». При этом следует иметь в виду, что «черные» были суровыми парнями, а после принятия Черного акта наверняка стали еще суровее, поскольку ситуация в целом ухудшилась.
Среди «охотников» были и колоритные персонажи, такие как «король Джон», орудовавший в лесах Хэмпшира. Он заверял своих жертв, что его люди — джентльмены. Когда вдова одного местного рейнджера выразила сомнения на этот счет, угрожавший ей предводитель «немедленно стянул свою черную перчатку, обнажив изящную белую руку… и спросил ее, не думает ли она, что эта рука когда-либо знала тяжелую работу или принадлежит какому-то жалкому типу?» В этой связи отметим, что в XVIII веке в уголовном мире Британии были яркие и известные преступники, память о которых сохранилась в балладах и преданиях. В качестве примера упомянем разбойника с большой дороги Дика Турпина, который начал свою «карьеру» в начале 1730-х. Его образ и поныне присутствует в британской массовой культуре, в отличие от «короля Джона», который «ускакал, наверное, в какое-нибудь маленькое лесное поместье, чтобы быть забытым на 250 лет, и, насколько нам известно, не оставил о себе ни легенды, ни следа в народной памяти, ни даже песни».
Эдвард Палмер подчеркивал, что принятие Черного акта имело далеко идущие последствия. «Для законодателей XVIII в. он являлся исходной жалованной грамотой на смерть, на внушительном фоне которой последующие законы о высшей мере наказания казались более мелкими расширениями <…>. Вместе с Актом о мятежах — законом об охране общественного спокойствия и порядка, с которого началось правление Ганноверской династии в 1715 году, — Черный акт образовал арсенал санкций, которые должны были применяться в случае необходимости против общественных волнений. Кроме того, он послужил образцом для дальнейшего устрашительного законодательства против недовольных шотландских горцев, ирландских сельских повстанцев и английских контрабандистов».
Рассуждая о природе акта, Э. П. Томпсон подробно разбирал характер режима проганноверских вигов под предводительством сэра Роберта Уолпола, который изобиловал примерами коррупции и непотизма. Историк отмечал, что «в политической жизни Англии 1720-х годов было нечто от нездорового духа „банановой республики“. Это признанная фаза торгового капитализма, когда хищники дерутся за добычу в виде власти и еще не договорились подчиняться рациональным или бюрократическим правилам и формам». Политики стремились вознаградить своих сторонников, предоставив должность, которая бы приносила привилегии и прибыль. Однако в конечном итоге Эдвард Палмер пришел к, казалось бы, парадоксальному выводу: законотворческая деятельность имела широкие последствия и не заключалась лишь в утверждении собственных корыстных интересов власть предержащих. Все дело в том, что юридические нормы налагали ограничения и на действия правителей. Они не просто не могли нарушить собственные законы в том, что касается применения силы, но верили в эти правила и в сопутствующую им идеологическую риторику. Случаи поражения правительства в суде (а такие были) служили консолидации власти, повышению ее легитимности и еще большему закреплению в рамках конституционного контроля. Это значит, что законы и нормы права не просто «надстройка», отделенная от «базиса», а нечто существенно большее и фундаментальное.
Хотя с утверждениями британского историка, высказанными полвека назад, можно спорить, следует признать, что звучат они по-прежнему весьма убедительно. По крайней мере, скрупулезный анализ событий, случившихся в лесах двух британских графств в 1720-е гг., демонстрирует весьма крепкие аргументы в пользу точки зрения Э. П. Томпсона.