Устранить наседающих даймонов: книги недели
Что спрашивать в книжных
Первые Романовы как русские просветители, орфическая религия древних греков, кинематограф Центральной Азии, борьба кадетов за свободную Россию и сборник статей Сергея Солоуха. В эту пятницу, как и во многие прошлые, редакция «Горького» выбрала самые интересные книжные новинки недели.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Людмила Сукина. Из Средневековья в век Просвещения. Россия первых Романовых. М.: Слово/Slovo, 2025. Содержание
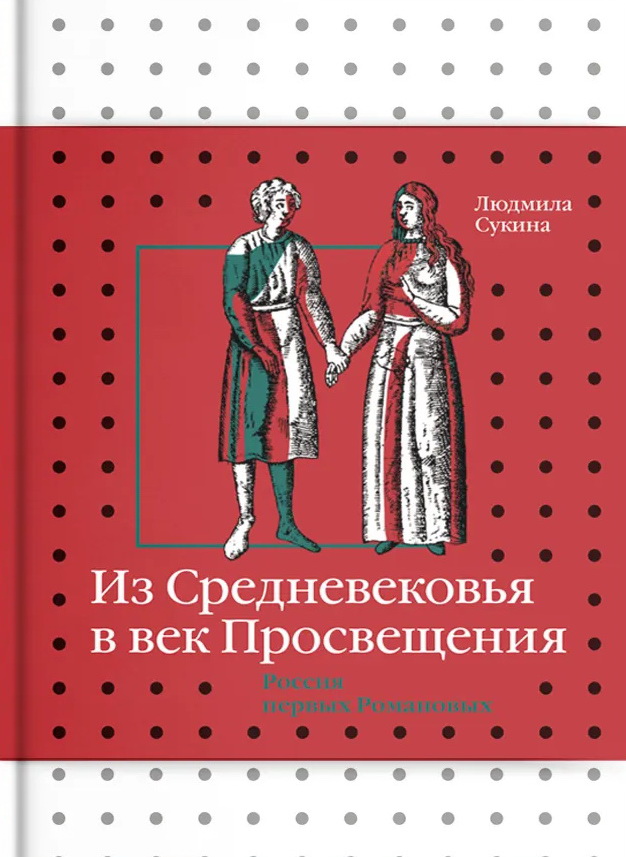
Про русский XVII век написано немало книг, и все равно он теряется между Смутным временем и эпохой Петра Великого, что, в общем, неудивительно: переходные периоды отличаются тем, что сочетают разнородные черты старого и нового, и потому целостный их образ складывается далеко не всегда. Именно созданием такого образа занимается Людмила Сукина в своей новой книге, посвященной последнему столетию Московского царства и первому столетию правления Романовых, когда еще сохранялось множество элементов средневековой культуры (например, книжность оставалась преимущественно письменной, а изобразительное искусство — иконописным), но все большую силу приобретали нововременные тенденции. По словам автора, старое содержание тогда зачастую отображалось в новых формах и наоборот, а выбор между традициями и новациями мог определяться внешне- и внутриполитическими обстоятельствами, придворными раскладами и т. п. Речь в книге по понятным причинам идет главным образом о царском дворе и церкви, поскольку все культурные новшества возникали именно в этих кругах — сколько-нибудь независимым интеллектуалам в то время взяться было еще неоткуда.
«Начало апреля 1646 года царь Алексей Михайлович провел в подмосковном селе Покровском — там расположился его охотничий стан. Молодой государь собирался охотиться на уток, но болота уже оттаяли и стали непроезжими для конных лучников. Алексей, томясь в ожидании, когда ему привезут ловчих ястребов, написал письмо своему двоюродному брату и близкому другу стольнику Афанасию Матюшкину. Их связывала общая страсть к соколиной охоте (об этой характерной царской „потехе“ мы расскажем немного позже). В этом письме царь велел Матюшкину прислать из Москвы путы для птиц („обносы“) и одновременно чернильный прибор с „трубками“ (цилиндрическими чернильницами. — Л. Сукина), а также запас очиненных перьев и чернил. Алексей Михайлович был первым государем, о котором мы точно знаем, что он мог и любил писать собственноручно, так как сохранились его автографы. Среди них не только короткие письма членам семьи и приближенным, такие, как послание, о котором мы ведем речь. Царь пытался сочинять стихи. Создал довольно примечательную для литературы XVII века „Повесть о преставлении патриарха Иосифа“, в которой подробно и красочно описал испугавшие его жутковатые подробности расставания с жизнью главы русской церкви, слывшего „ревнителем благочестия“».
Евгений Афонасин. Орфика. Тексты и исследования. СПб.: Издательство РХГА, 2025. Содержание
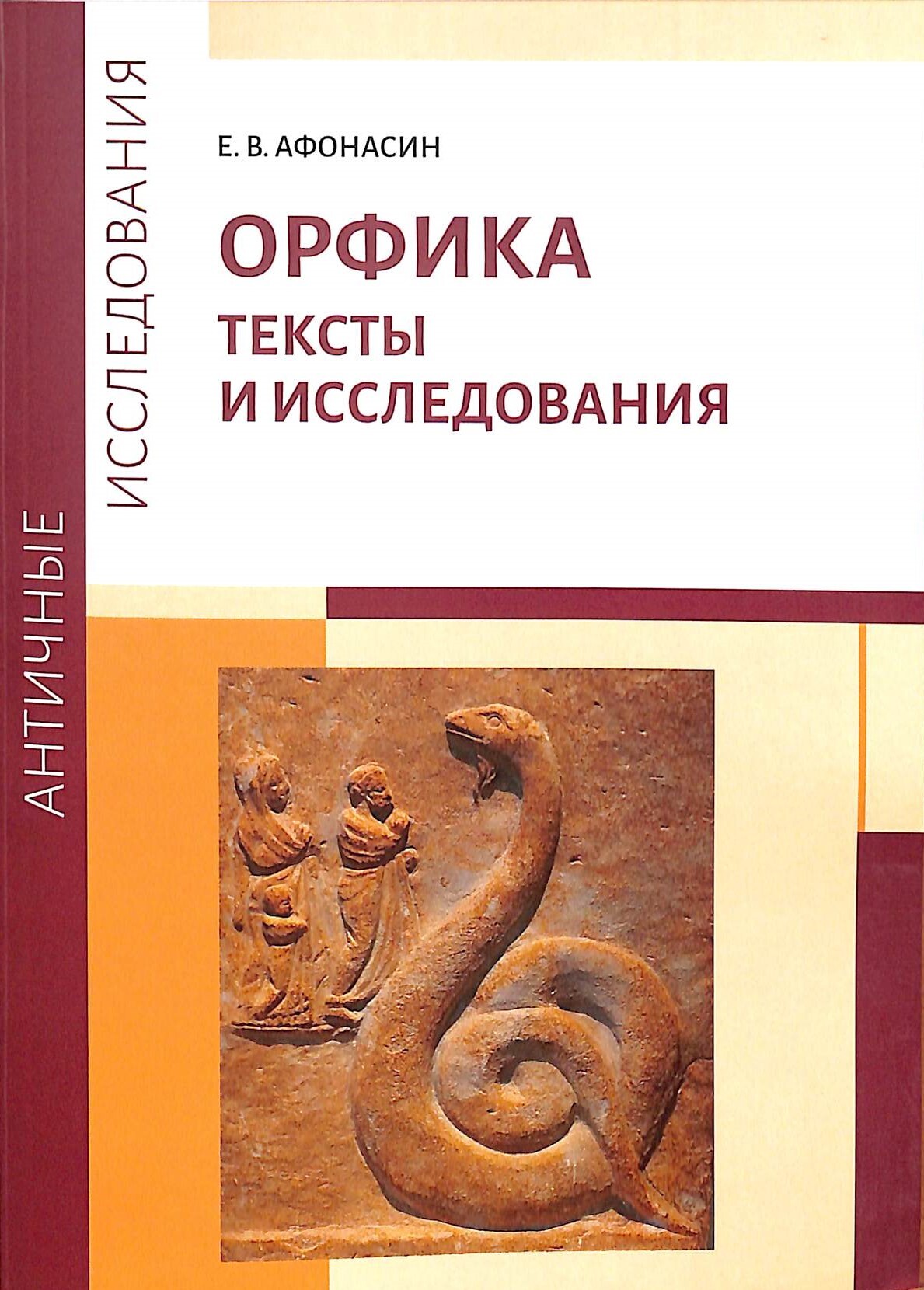
Орфическая религия — одна из наименее понятных и наименее изученных составляющих религиозной жизни древних греков, что неудивительно, поскольку связана она была с посвятительными мистериальными ритуалами, а сущность мистерий в том и заключается, чтобы никто кроме посвященных никогда ничего о них не знал, вот мы и не знаем (до сих пор не установлено даже, когда были написаны знаменитые орфические гимны. Кое-что проясняет сама фигура мифического героя Орфея, который ассоциировался с далеким путешествием, предпринятым им в компании аргонавтов, с опасным нисхождением в царство Аида и с внутренним преображением под воздействием музыки и поэзии. Все вместе это сложилось в такой яркий образ, полный таинственного темного мистицизма, что он продолжает будоражить воображение и поныне, однако ученым, пытающимся изучать этот предмет конвенциональными средствами, приходится опираться не на более поздние измышления энтузиастов, а на обрывочные сведения, по-настоящему древние и добываемые буквально по капле: например, в 1962 году археологи нашли так называемый «Папирус из Дервени», точнее, небольшой фрагмент папирусного свитка, в котором содержится ценнейшая, хотя и малопонятная информация об орфизме. Этому документу, а также орфическим золотым табличкам и другим, более общим темам посвящена новая книга антиковеда Евгения Афонасина, ориентированная скорее на специалистов, но любителей древних культов она наверняка тоже обрадует.
«… мольбы и жертвоприношения умиротворяют души, а [песнопения] магов способны устранить наседающих даймонов. А наседающие даймоны — это (мстящие) души. Поэтому-то маги совершают жертвоприношение так, как будто они выплачивают пеню. В качестве подношения они льют воду и молоко, из которых изготавливают возлияния (для душ). Они приносят в жертву неисчислимые хлебцы со многими вмятинами, потому что души также неисчислимы. Посвященные приносят предварительную (первую) жертву Эвменидам так же, как и маги. Ведь Эвмениды — это и есть души, потому каждый, желающий принести жертву за них богам, должен сначала (принести? отпустить?) маленькую птичку».
Камиль Гимаздтинов. Изображая Центральную Азию. Оптика, идентичность и эстетика современного кино региона. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2025. Содержание
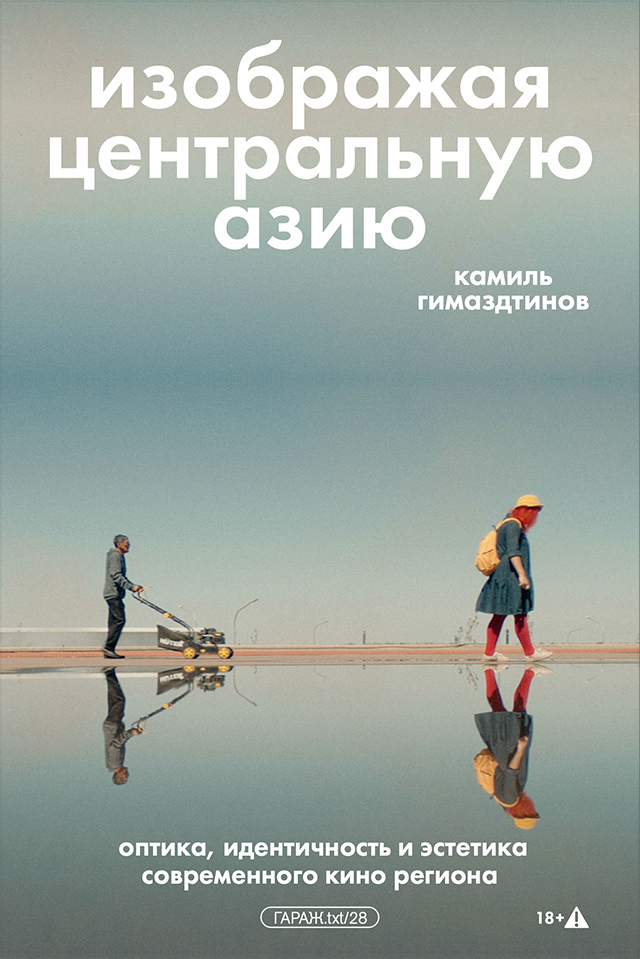
Если попросить среднестатистического зрителя назвать несколько фильмов, с которыми у него ассоциируется кинематограф Центральной Азии, то он, скорее всего, ограничится стандартным списком: «Игла» Рашида Нугманова, «Фара» Абая Карпыкова, «Охламон» Эдуарда Реджепова, «Шиzа» Гульшад Омаровой. Разумеется, этим кинопродукция Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана далеко не исчерпывается, предлагая и авторское кино, и блокбастеры в самом широком жанровом диапазоне — вот только его, к сожалению, мало кто смотрит не только за рубежом, но и в отечественном прокате.
Молодой исследователь, специализирующийся на центральноазиатском кино, Камиль Гимаздтинов в своей книге не только знакомит читателя с самыми значимыми лентами перестройки, постсоветского времени и наших дней, но обнаруживает, что и для него самого в объекте исследования остается масса лакун, многие из которых, вероятно, не будут восполнены уже никогда. Однако и этого своего рода вводного курса хватит и синефилу, и нормальному зрителю, чтобы провалиться в кинематограф Центральной Азии, решительно не похожий ни на что за ее пределами.
Прослеживая эволюцию регионального кинопроизводства, Гимаздтинов дает социальный и политический контекст, не всегда известный русскоязычному читателю — что тоже немаловажно (а порой и критически важно) для понимания упомянутых в книге картин.
«Неслучайно именно из документалистики в художественное кино пришли режиссеры, сумевшие его проблематизировать и привнести глоток свежего воздуха. Одной из них стала Майрам Юсупова, снявшая 30 документальных и всего пару игровых фильмов. В ее полнометражном художественном дебюте „Время желтой травы“ (1991) вдруг возникает отсутствовавший до этого во всем национальном кино нерв, конкретно здесь выразившийся в виде трупа, возникшего около ничем не примечательного поселка. Его жители задаются, возможно, странным для европейского зрителя вопросом: что делать дальше? Казалось бы, просто похоронить, но нет: в дело вступают и суеверия, и деревенские обычаи, раскрытые в картине все с той же документальной оптикой. Чрезвычайным происшествием для селян предстает не просто появление в окрестностях человека, а сам факт его мертвого состояния — нестандартного и выходящего за рамки любого плана на черный день».
Ариадна Тыркова-Вильямс. На путях к свободе. М.: Альпина Паблишер, 2025. Содержание
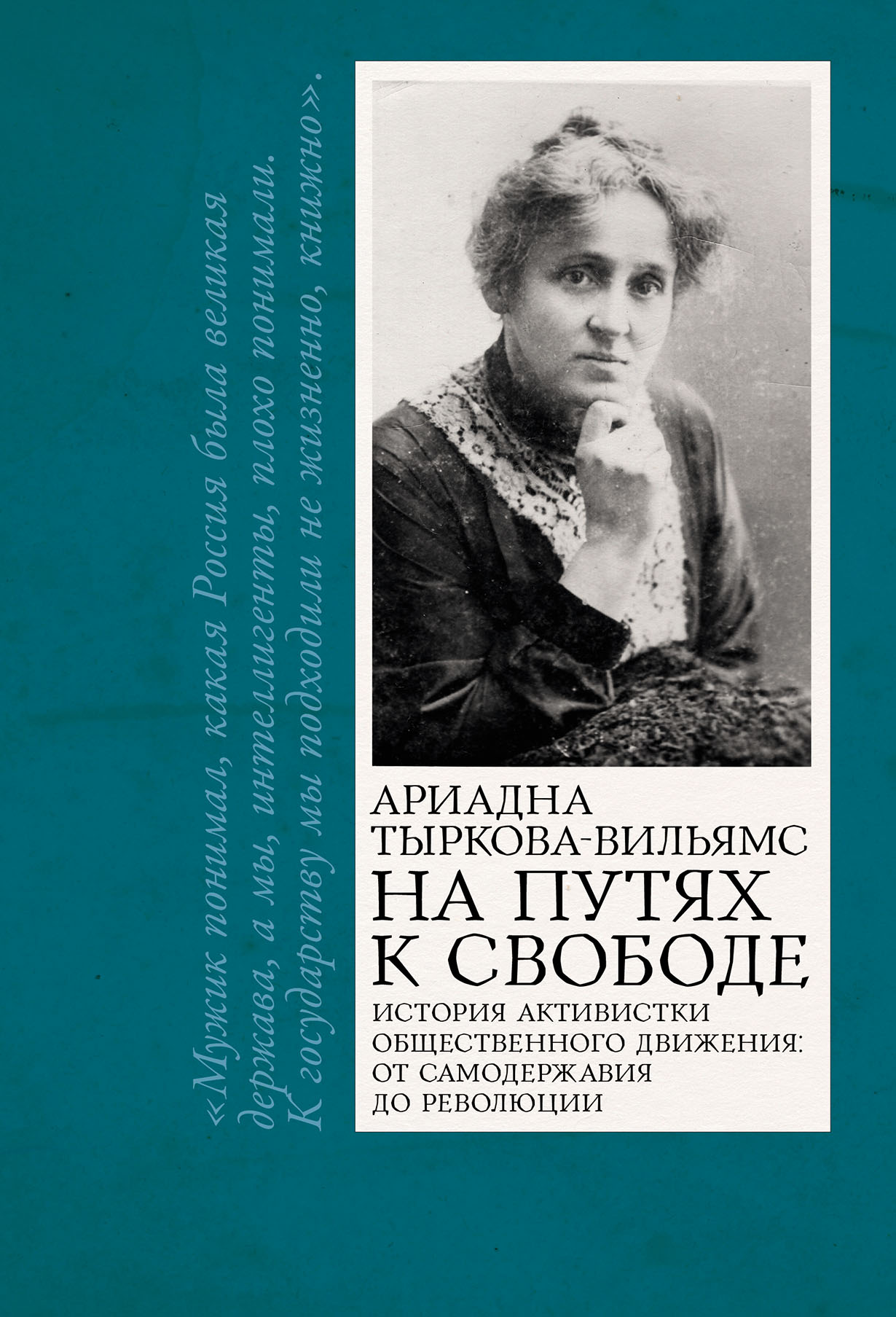
Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962) была единственной женщиной, состоявшей в ЦК партии кадетов (иногда ее даже упоминают среди сооснователей). Как политик она выступала, естественно, за установление в России конституционной демократии, активно участвовала в борьбе за права женщин. В 1902 году была арестована за контрабанду эмигрантского журнала «Освобождение», но сумела сбежать, чтобы уже после революции 1905 года вернуться на родину по амнистии и продолжить деятельность. В 1917 году возглавила фракцию кадетов в Петроградской думе, после Октябрьской революции и ликвидации партии навсегда покинула Россию. В эмиграции занималась литературными трудами — оставила после себя, например, двухтомную «Жизнь Пушкина».
Даже по этим скупым биографическим строкам можно понять, насколько неординарной личностью была Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс даже для неординарной истории российского революционного движения начала XX века. Именно на политической жизни империи в основном сосредоточена книга «На путях к свободе» — второй том мемуаров Тырковой-Вильямс (первый, «То, чего больше не будет», посвящен по большей части семейной истории).
Чтение, надо заметить, обязательное для тех, кто хочет взглянуть на события тех лет глазами политической силы, которую зачастую выносят за скобки, — консервативного либерализма, зверя, так особо и не прижившегося в наших неистовых краях.
«Я не хочу высмеивать или обвинять моих товарищей по партии. Мы все горели искренним, бескорыстным, неутолимым желанием как можно скорее ввести в России самый усовершенствованный строй. Я это желание от всего сердца разделяла. Если на меня иногда нападали сомнения, не в целях, а в методах, то на меня обрушивали такой груз книжного знания, что я с трудом из-под него выкарабкивалась. Особенно тяжелые аргументы сыпались на мою женскую голову, когда меня забрасывали цитатами из профессора Листа. Я о нем ничего не знала, но очень быстро поняла, что Листа не перешибешь. Я и теперь не знаю, что он писал и где печатался. Кажется, в Берлине. Но теперь я знаю, что мир был бы несравненно счастливее, если бы хорошие русские люди меньше поддавались заморским ученым и больше приглядывались бы к русской жизни, вдумывались бы в прошлое и настоящее своего народа».
Сергей Солоух. Пары: статьи и эссе о литературе, а также музыке и танцах, 2000–2025. М.; СПб.: «Руграм» / «Пальмира», 2025. Содержание
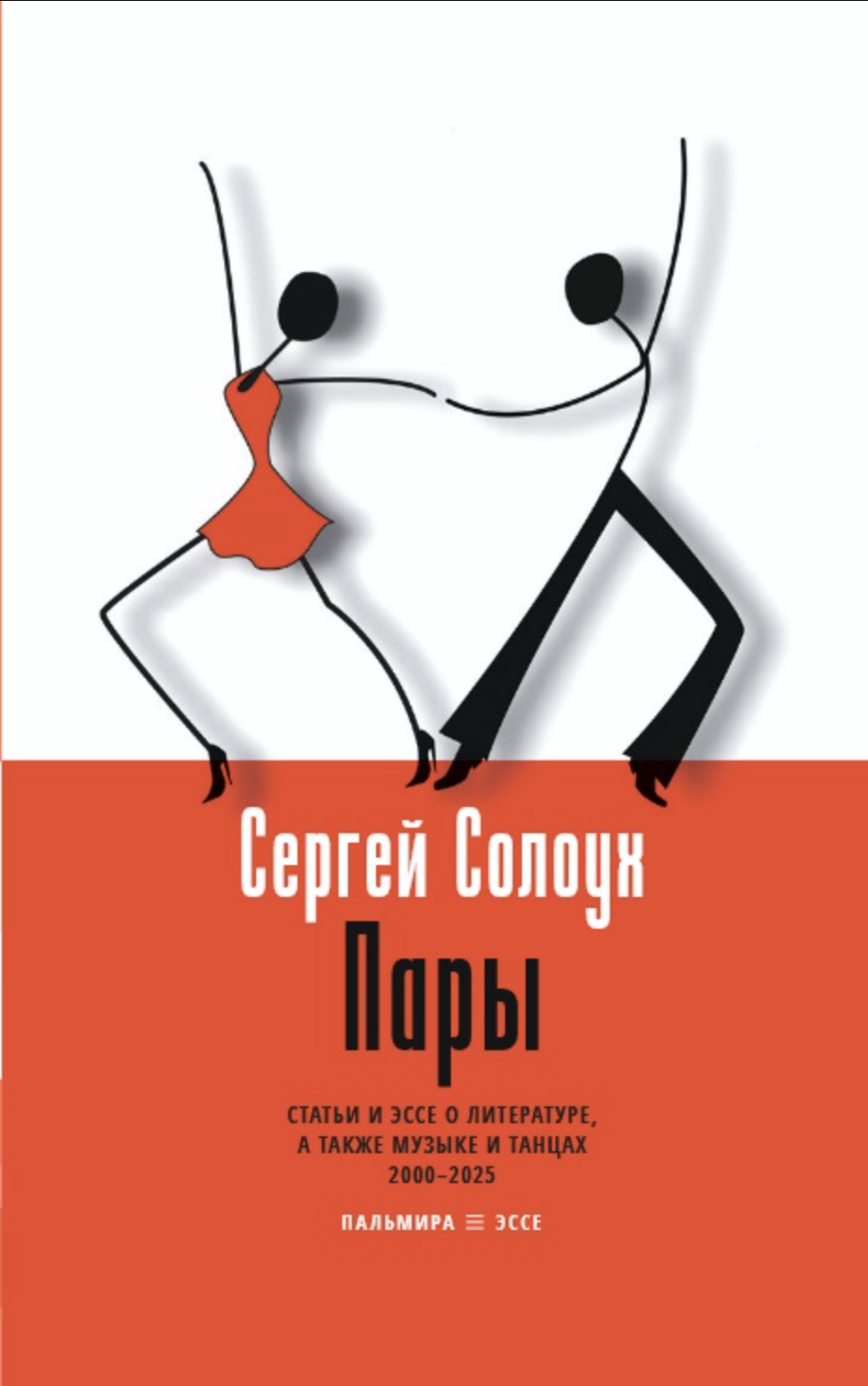
Прозаик и критик, исследователь творчества Ярослава Гашека Сергей Солоух собрал под одной обложкой свои многочисленные публикации, выходившие в разных изданиях (в том числе и на «Горьком») на протяжении последней четверти века. Каждая из написанных им статей в свое время была посвящена какому-нибудь конкретному человеку, вдруг возникшему в поле актуальной русской культуры, будь то очередной поэт, или писатель, или даже блюзовый или рок-музыкант. Но все эти публикации объединяет одна важная черта: Солоух пишет о своих героях не отстраненно, в жанре рекомендательной (или нерекомендательной) рецензии, а пропускает опыт восприятия их творчества через всю совокупность накопленных впечатлений — как эстетических, так и просто жизненных.
Что дает подобный метод? Прежде всего, неожиданные, порой парадоксальные сближения разных имен, само появление которых в рамках одного текста требует объяснений — иногда академически развернутых, иногда чувственно-эмоциональных, иногда головокружительно рискованных. И тогда Гашек внезапно оказывается близок Альберу Камю, музыка Чака Берри звучит гимном ностальгическим воспоминаниям по ушедшей юности, правозащитница и переводчик Наталья Горбаневская встает в один ряд со славянофилом Аксаковым, а Николай Чернышевский прямиком из Алексеевского равелина поучает Милана Кундеру, как надо писать прозу. С подобными авторскими прочтениями классиков и современников можно соглашаться или не соглашаться — но по крайней мере подобное чтение не просто познавательно, но и очень увлекательно.
А поскольку Сергей Солоух еще и опытный писатель, то его «Пары» из серии смелых экспериментов по остроумному литературоведению превращаются еще и в живописные зарисовки из жизни разных вымышленных и полувымышленных персонажей — каждый со своей речевой манерой и особенным отношением к предмету изложения.
«Принято считать, что такой придурок, как я, непременно жрет что‑нибудь этакое. У кроватного изголовья обязательно валяется толстый, опухший, как утопленник, „Ulysses“, а в машине намертво закольцован на несъемном диске „Петербург“ Андрея Белого. На самом же деле у меня совсем другие тараканы. На полу рядом с диванчиком другой утопленник — Histoire de la collaboration Доминика Веннера, а сверху, прямо на нем, пингвиновский Homage to Catalonia с ружьем и флагом на обложке. В ридере „Белый фронт генерала Юденича“ Н. Н. Рутыча, а в машине и вовсе соль земли, прямой и незатейливый Cream. Royal Albert Hall: London May 2–3–5–6. 2005».