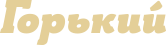Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Кирилл Зубков. Александр Островский: драматург, общество, современность. М.: Рутения, 2024. Содержание
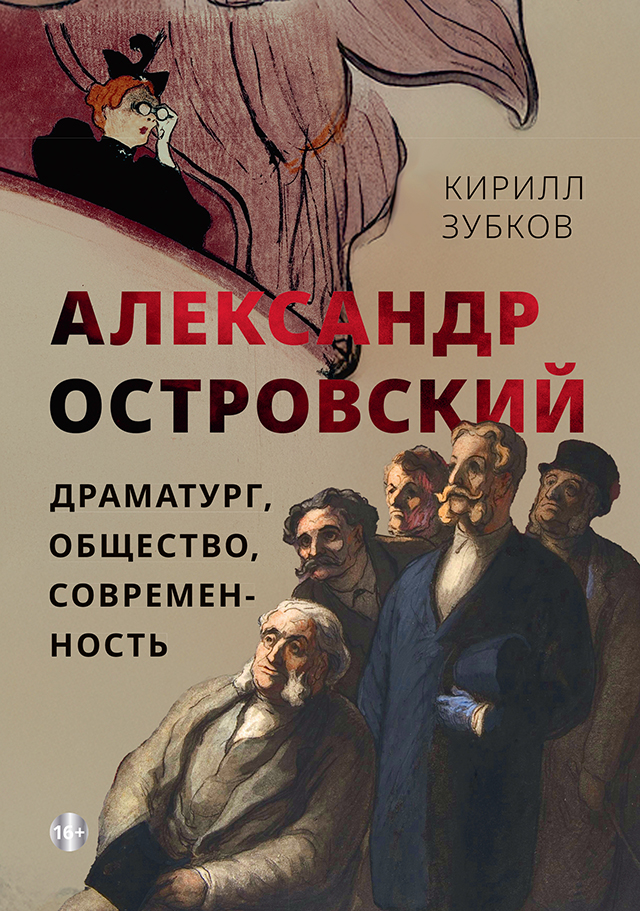 Во всем обширном драматургическом наследии Островского можно найти только одного заметного персонажа-«инородца», как называли тогда многочисленных представителей нерусского населения Российской империи, — это «Обалдуй оглы Тараканов, турецкий жид, армянский грек, туркмен, бухарец, восточный человек» в пьесе «Последняя жертва». Иной наш просвещенный читатель с заведомо ограниченным репертуаром реакций, увидев такое, сразу вскинется и провозгласит: «Ага, ну все понятно!» — но на самом деле не поймет ничего: вводя в действие ориенталистское чучело, слепленное из кусков расхожих стереотипов, автор преследовал совсем не шовинистическо-империалистические цели, но глумился над царской цензурой, которая запрещала представлять на сцене «восточных людей» и, как бы вы думали, почему? Потому что боялась разжигания межнациональной розни и всемерно этому препятствовала. Сам же Островский «инородцами» сочувственно интересовался и хорошо понимал, чем один народ отличается от другого, о чем в его дневниках есть соответствующие записи. Однако творчество, не побоимся этого слова, главного русского драматурга по сей день остается недоизученным и недопонятым, а утвердившиеся еще в XIX веке две основные линии его интерпретации — радикально-демократическая и народно-национальная — выплескивают вместе с водой слишком много младенцев, поэтому Кирилл Зубков решил все это переосмыслить и написал своего рода путеводитель по пьесам Островского, в первую очередь отвечающий на простой, и в то же время довольно сложный вопрос: почему, собственно, произведения драматурга до сих пор так интересны и во всех отношениях хороши? Получилось, на наш вкус, весьма взвешенное, убедительное и при этом совершенно традиционное по форме и манере изложения исследование, действительно предлагающее новый взгляд на большое литературное явление, а не упражнение на тему каких-нибудь натужных интеллектуальных мод.
Во всем обширном драматургическом наследии Островского можно найти только одного заметного персонажа-«инородца», как называли тогда многочисленных представителей нерусского населения Российской империи, — это «Обалдуй оглы Тараканов, турецкий жид, армянский грек, туркмен, бухарец, восточный человек» в пьесе «Последняя жертва». Иной наш просвещенный читатель с заведомо ограниченным репертуаром реакций, увидев такое, сразу вскинется и провозгласит: «Ага, ну все понятно!» — но на самом деле не поймет ничего: вводя в действие ориенталистское чучело, слепленное из кусков расхожих стереотипов, автор преследовал совсем не шовинистическо-империалистические цели, но глумился над царской цензурой, которая запрещала представлять на сцене «восточных людей» и, как бы вы думали, почему? Потому что боялась разжигания межнациональной розни и всемерно этому препятствовала. Сам же Островский «инородцами» сочувственно интересовался и хорошо понимал, чем один народ отличается от другого, о чем в его дневниках есть соответствующие записи. Однако творчество, не побоимся этого слова, главного русского драматурга по сей день остается недоизученным и недопонятым, а утвердившиеся еще в XIX веке две основные линии его интерпретации — радикально-демократическая и народно-национальная — выплескивают вместе с водой слишком много младенцев, поэтому Кирилл Зубков решил все это переосмыслить и написал своего рода путеводитель по пьесам Островского, в первую очередь отвечающий на простой, и в то же время довольно сложный вопрос: почему, собственно, произведения драматурга до сих пор так интересны и во всех отношениях хороши? Получилось, на наш вкус, весьма взвешенное, убедительное и при этом совершенно традиционное по форме и манере изложения исследование, действительно предлагающее новый взгляд на большое литературное явление, а не упражнение на тему каких-нибудь натужных интеллектуальных мод.
«Театральная публика могла, с точки зрения драматурга, появиться только в современности, но эта же публика могла оказаться своего рода моделью для более разумно и честно устроенного общества. Собственно, совокупность этих условий и можно определить как „модерность“, путем к которой Островский считал среди прочего театр. Согласно его часто цитируемым словам, „<н>ациональный театр есть признак совершеннолетия нации, так же как и академии, университеты, музеи“ (Х, 139; „Записка о положении драматического искусства в России в настоящее время“). Островскому было чуждо утопическое стремление полностью преодолеть всякие конфликты и противоречия, — но он, как мы покажем, пытался предоставить каждому зрителю возможность участвовать в общественной жизни. Иными словами, миссией искусства Островского было преодолеть исключение огромной массы людей из современных политических и культурных процессов».
Джефф Портер. Утраченный звук: забытое искусство радиоповествования. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Перевод с английского Максима Мирошниченко. Содержание
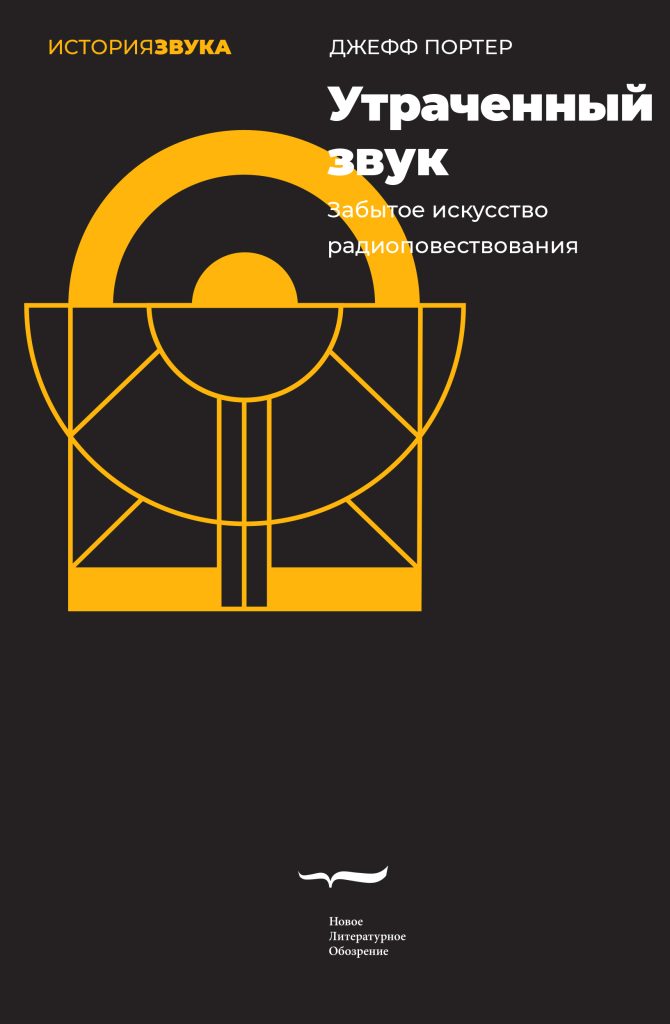 Хорошо было в детстве, когда сумерки только начинают борьбу со светом, мерцающим на листве за окном, заварить чай с малиновым вареньем, забраться под покрывалку на перине, устроиться поудобнее и включить радио «Маяк». А там, по радио «Маяк», — радиоспектакль: капитан Немо нашел проход, связывающий Красное море со Средиземным. И сразу чай слаще, и перина мягче, и сумерки не так страшат надвигающейся грозой, которая обвалит тополя, порвет электропровода, а по радио все так же Зиновий Гердт будет разыгрывать свой спектакль по мотивам бессмертных произведений Жюля Верна.
Хорошо было в детстве, когда сумерки только начинают борьбу со светом, мерцающим на листве за окном, заварить чай с малиновым вареньем, забраться под покрывалку на перине, устроиться поудобнее и включить радио «Маяк». А там, по радио «Маяк», — радиоспектакль: капитан Немо нашел проход, связывающий Красное море со Средиземным. И сразу чай слаще, и перина мягче, и сумерки не так страшат надвигающейся грозой, которая обвалит тополя, порвет электропровода, а по радио все так же Зиновий Гердт будет разыгрывать свой спектакль по мотивам бессмертных произведений Жюля Верна.
Вышедшая в серии «История звука» книга Джеффа Портера посвящена не только тому, как мы сумели потерять такой экстаз, но и тому, в чем именно он заключался. Искусство радиопостановки на пике своего становления дошло до слома наших представлений о массовом и элитарном — тому же кинематографу до этого еще пришлось идти очень и очень долго. Для радио с удовольствием писал пьесы Сэмюэл Беккет, поэт Дилан Томас использовал его как способ расширить звучание, а с ним и смысл своих стихотворений, Гленн Гульд в этом медиаторе находил почву для радикальных музыкальных высказываний, которым не было места в концертных залах. Про Орсона Уэллса с его легендарной «Войной миров» напоминать лишний раз, думаем, не стоит.
Каждый из этих разных художников находил в радиоформате что-то свое, видел уникальность этого инструмента и использовал его по полной. Читая книгу Джеффа Портера, невольно всплакнешь не только о потерянном Зиновии Гердте, но и о том, что когда-то технологический оптимизм был возможен — и оптимизм этот был обоснован.
«Сотрудничество Беккета с Би-би-си сыграло ключевую роль в сложных отношениях между модернистской литературой и новым влиятельным медиумом. Уже будучи востребованным романистом и драматургом, Беккет привнес в свое радионачинание навязчивые идеи, которые поведут его в неожиданном направлении. Как и его ранние работы, пьеса „Про всех падающих“ отражает привычную модернистскую одержимость параличом и смертью. Но в отличие от всего, что Беккет писал раньше, его первая радиопьеса придала его негативистской философии необычный оттенок, особенно в ее представлении женской субъективности в образе главной героини, миссис Руни, которую Беккет наделяет удивительным характером. То, что Беккет одарил одну из своих героинь полнотой вокального бытия, поразительно, особенно в свете его радикального минимализма, и свидетельствует о том, как написание пьесы для радио изменило, пусть и временно, параметры его повествования».
Дэвид Герберт Лоуренс. Сумерки Италии. М.: КоЛибри, 2024. Перевод с английского Аллы Николаевской. Содержание
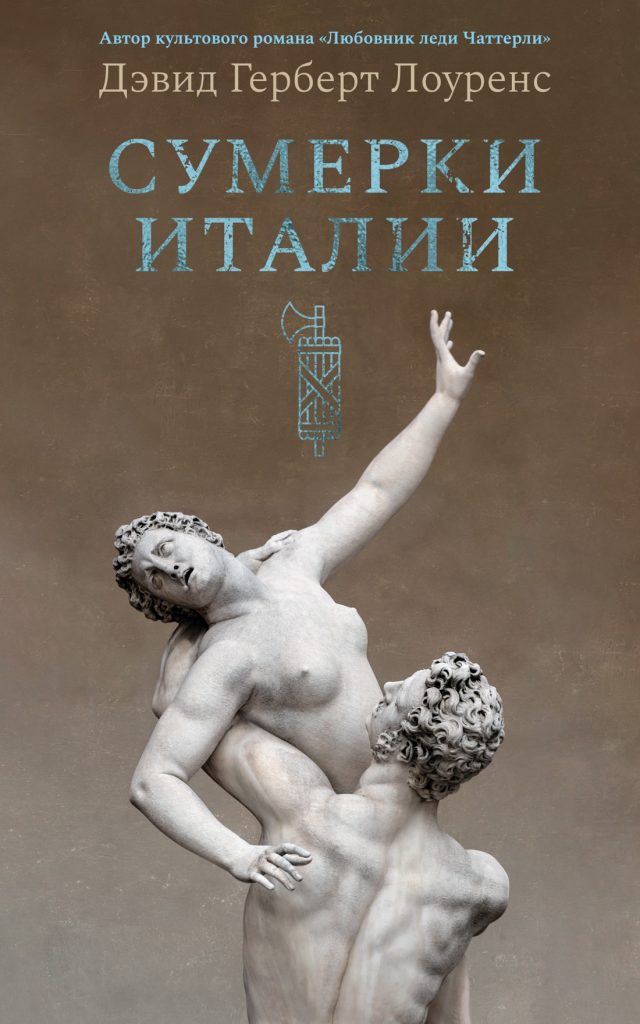 Для Дэвида Герберта Лоуренса путешествие по Италии стало поводом для травелога. Для современного читателя этот травелог станет, скорее всего, полноценным путешествием в мир европейского модернизма с его вычурными неврозами, радикальной переоценкой ценностей, поисками не только утраченного времени, но и самого себя — с неожиданным обретением того самого себя в лохани, в которой мылся полуневольный любовник леди Чаттерлей.
Для Дэвида Герберта Лоуренса путешествие по Италии стало поводом для травелога. Для современного читателя этот травелог станет, скорее всего, полноценным путешествием в мир европейского модернизма с его вычурными неврозами, радикальной переоценкой ценностей, поисками не только утраченного времени, но и самого себя — с неожиданным обретением того самого себя в лохани, в которой мылся полуневольный любовник леди Чаттерлей.
На обочине дороги, ведущей в Рим, Лоуренс видит распятых разбойников; в этрусских артефактах — витальную силу, отобранную и высосанную безжалостной империей; в глупой куропатке — проводницу в подземное царство Вакха. В общем, все антично и, соответственно, модерново. Но отчего же так тревожно читать эти строки, сочиненные совсем юным любителем жизни во всех ее проявлениях?
Дело в том, что «Сумерки Италии» были написаны накануне Первой мировой войны, которую молодой Лоуренс предчувствует едва ли не на каждой странице. Что, вопреки неутихающей скандалезной славе, говорит о нем как о художнике не менее проницательном и точном, чем Зиновий Гердт в погоне за метеором.
«Утка не обитает под водой, как рыба. Рыба — это anima, одушевленная жизнь, ключ к бескрайнему морю, к водной стихии. По этой причине в годы раннего христианства Иисуса изображали в виде рыбы, особенно в Италии, где все еще мыслили категориями этрусских символов. Иисус был anima бескрайней, влажной, плодоносной стихии, которая противостояла алому пламени — излюбленному цвету фараонов и царей Востока, старавшихся облачаться в алые и пурпурные одежды».
Натаниэль Айзексон. Возникновение китайской научной фантастики. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2024. Перевод с английского Марии Куташовой. Содержание
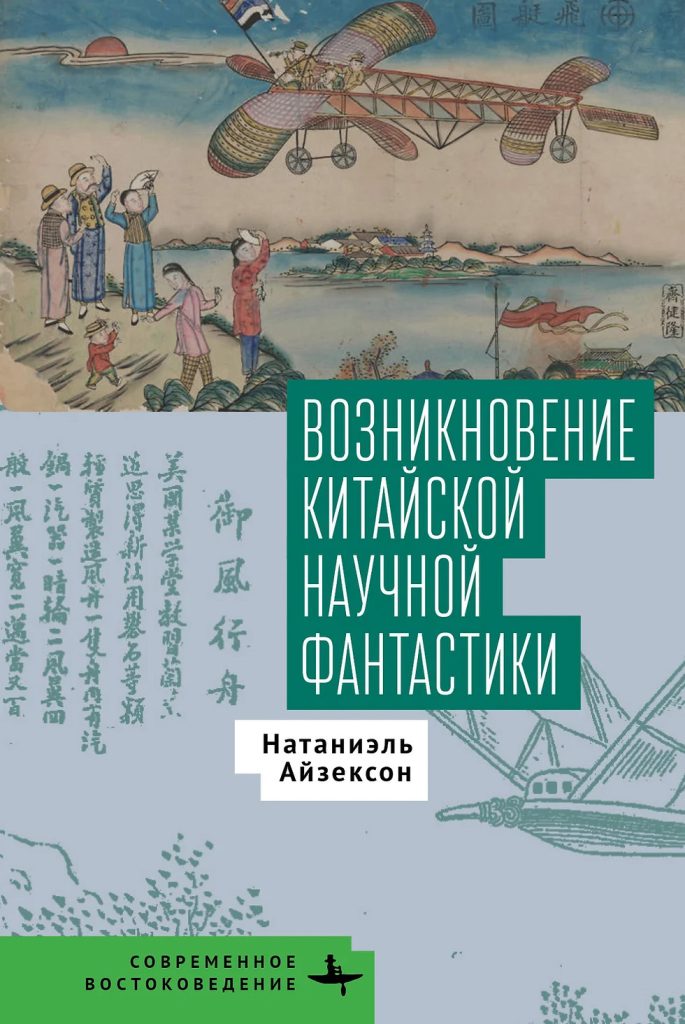 Международный читатель узнал о китайском сай-фае относительно недавно, когда стали публиковаться переводы трилогии фантаста Лю Цысиня «Память о прошлом Земли», действие которой начинается в годы Культурной революции, а заканчивается в далеком космическом будущем («Горький» о ней писал). Нетрудно догадаться, что это лишь снежинка на айсберге жанра, очертания которого скрыты от взгляда незнатока. Оценить объемы этой невидимой части помогает книга Айзексона — и именно этим она интересна прежде всего.
Международный читатель узнал о китайском сай-фае относительно недавно, когда стали публиковаться переводы трилогии фантаста Лю Цысиня «Память о прошлом Земли», действие которой начинается в годы Культурной революции, а заканчивается в далеком космическом будущем («Горький» о ней писал). Нетрудно догадаться, что это лишь снежинка на айсберге жанра, очертания которого скрыты от взгляда незнатока. Оценить объемы этой невидимой части помогает книга Айзексона — и именно этим она интересна прежде всего.
Автор проблематизирует представление о китайской научной фантастике как сугубо заимствованном явлении и показывает, что все, как водится, сложнее. Безусловно, писатели Поднебесной находились под влиянием западной науки и литературных новшеств, но продукты этого влияния чрезвычайно специфичны. Одним из важных мотивов китайского сай-фая оказывается рефлексия цивилизационного разрыва, отставания — в этом отношении, настаивает Айзексон, этот феномен можно назвать ориенталистским. Этот сюжет оказывается сквозным, проходящим сквозь весь корпус текстов от произведений начала XX века до того же Лю Цысиня.
Книгу можно было бы назвать по-настоящему увлекательным погружением в малоизвестный феномен, если бы не бюрократический формат изложения, усиленный довольно-таки понурым качеством перевода, впрочем вполне характерным для серии.
«В предисловии к книге „Клич“ Лу Синь рассказывает о том впечатлении, которое на него произвела сцена из фильма с казнью китайца в оккупированной японцами Маньчжурии на виду у безразличной толпы, о том, как это зрелище подкосило его стремление продолжать обучение и как в 1905 году в том лекционном зале он решил обратиться к „духовному лечению“ литературой. Этот эпизод — отличный материал для исследователей китайской литературы и кино, пытающихся найти единый травматический разрыв, который мог бы отразить зарождение современной китайской литературы».
Джордж Сентсбери. Заметки из винного погреба. М.: Ad Marginem, 2024. Перевод с английского Владимира Петрова. Содержание. Фрагмент
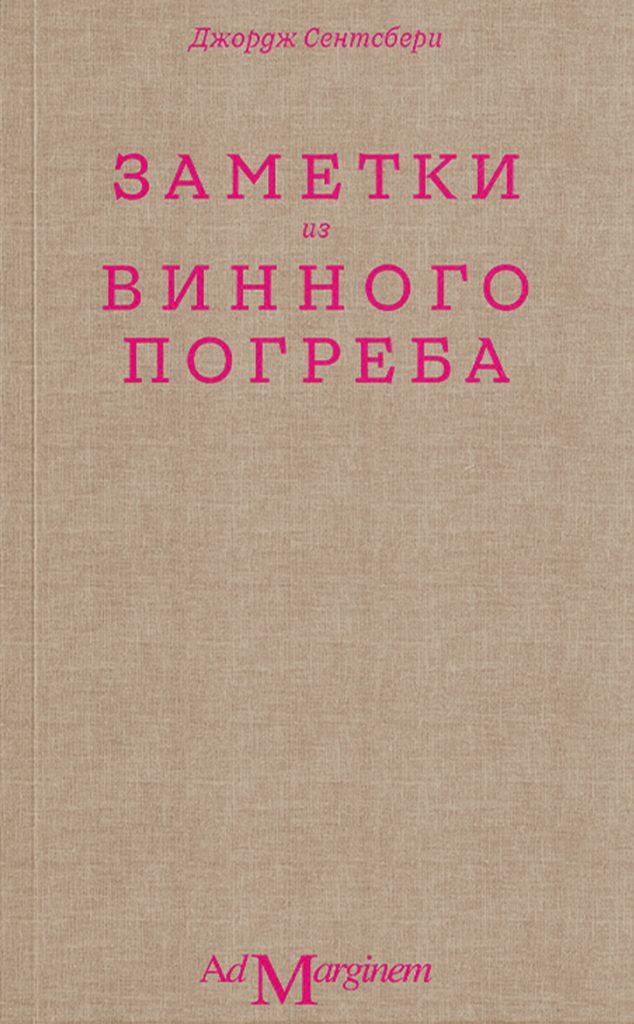 Издание, чрезвычайно полезное для развития фантазии: английский филолог и знаток французской литературы Джордж Сентсбери (ум. в 1933) пишет о своей коллекции алкоголя, собранной в Британии конца XIX века. Вот как характеризует автора переводчик Петров:
Издание, чрезвычайно полезное для развития фантазии: английский филолог и знаток французской литературы Джордж Сентсбери (ум. в 1933) пишет о своей коллекции алкоголя, собранной в Британии конца XIX века. Вот как характеризует автора переводчик Петров:
«хрестоматийный викторианец: представитель среднего класса, сам добившийся всего, закончивший Оксфорд, знающий классические языки, имеющий хорошую физическую подготовку, примерный семьянин, образцовый прихожанин, ценитель жизненных удовольствий, любитель всего изящного и враг безвкусицы. К тому же человек глубоко консервативных убеждений».
Так вот, о фантазии: одна часть описываемых напитков представляют загадку даже для профессиональных энологов, другая существует в современных формах, которые весьма отличны от зафиксированных автором. Словом, практического смысла в чтении немного, но зато можно сфокусироваться а) на изяществе слога, б) культурологических отсылках, посредством которых Сентсбери постулирует прямую связь между любовью к вину и сенсорным, даже душевным развитием.
Кроме того, «Записки» — это изящное свидетельство размеренной, крепко стоящей на ногах жизни, уверенной в своих основаниях, а ныне почти исчезнувшей. В отечественной гастрономической критике эту линию развивал недавно умерший Алексей Зимин — Сентсбери, без сомнений, относится к числу его идейных и лирических предшественников.
«Поставив рюмку ликера в стакан с наиболее плоским дном, осторожно добавьте — или попросите кого-нибудь сделать это — воду в сам абсент, чтобы смесь перелилась из одного сосуда в другой. Темно-изумрудный цвет чистого напитка переходит сначала в цвет звездного смарагда (если бы Всевышнему было угодно сотворить четверку „звездных“ камней), а затем в опаловый; впоследствии этот опаловый цвет бледнеет; когда ликерная рюмка содержит одну лишь чистую воду и питье готово, удивительное сочетание запаха и вкуса освежает и услаждает вас; все это дает необыкновенно приятное ощущение. Испытывать его, как и другие приятные ощущения, следует не слишком часто. Я пил не более одного стакана абсента в день и уже тридцать лет не пью его вовсе. „Зеленая Муза“ — bonne diablesse, если не злоупотреблять ею, и, когда вы оказываетесь на берегу, потрепанные океаном, она принимает вас в объятия, как не делает никто другой».