Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Теодор Адорно. Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. Перевод с немецкого Александра Белобратова и Татьяны Зборовской. Содержание. Фрагмент
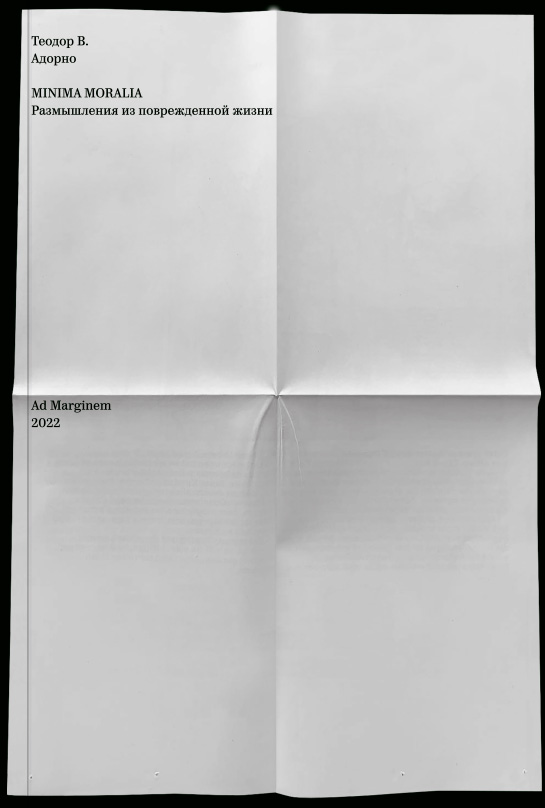 Теодор Адорно — не самый модный классик философии, и до таких соседей по каталогу издательства Ad Marginem, как, скажем, Эрнст Юнгер или Оливия Лэнг, ему далеко во многих смыслах. В поле ненавидимой им популярной культуры Адорно существует где-то между стихами после Освенцима, авторством песен группы «Битлз» и почти поголовной убежденностью в том, что читать его сочинения невозможно (причиной тому, помимо прочего, — результаты трудов некоторых отечественных переводчиков). В свою очередь Minima Moralia — не самая известная работа Адорно, но с переводом ей повезло, как и с моментом выхода в свет: незамеченной она не останется.
Теодор Адорно — не самый модный классик философии, и до таких соседей по каталогу издательства Ad Marginem, как, скажем, Эрнст Юнгер или Оливия Лэнг, ему далеко во многих смыслах. В поле ненавидимой им популярной культуры Адорно существует где-то между стихами после Освенцима, авторством песен группы «Битлз» и почти поголовной убежденностью в том, что читать его сочинения невозможно (причиной тому, помимо прочего, — результаты трудов некоторых отечественных переводчиков). В свою очередь Minima Moralia — не самая известная работа Адорно, но с переводом ей повезло, как и с моментом выхода в свет: незамеченной она не останется.
Издательский долгострой закончился весной, и вскоре уже лента новостей кричала, а аннотация намекала, что эту книгу нужно прочитать именно сейчас. Дело в обстоятельствах ее создания: Теодор Визенгрунд Адорно начал делать записи в 1944 году в американской эмиграции, закончил рукопись в 1947-м, а издал — в 1951-м, после возвращения в освобожденную от нацизма Германию. Созвучность той ситуации с нашей нынешней провоцирует ожидания, которым не суждено оправдаться. Точнее, они будут оправданы, но не вполне прямым образом: злободневной мысль Адорно не назовешь, но некоторые его соображения, вне всяких сомнений, сегодня важны.
«Размышления из поврежденной жизни» — сборник коротких очерков, возникших на пересечении двух отчаяний: перед лицом фашистского варварства, с одной стороны, и американской массовой культуры — с другой: Адорно считал ее не меньшим варварством, а также парадигматическим воплощением общественной жизни в капиталистическую эпоху. Их глубинное внутреннее родство наводит на мысль о двух стадиях жизненного цикла Чужих, т. е. о взаимосвязанных проявлениях единого процесса, механику которого Адорно с Хоркхаймером описали в «Диалектике Просвещения» (1944) — своеобразном приквеле книги Minima Moralia.
«Двойственность прогресса, который всегда одновременно усиливал и потенциал свободы, и действительность угнетения, привела к тому, что народы все более оказывались во власти общественной организации и подчинения природы», — утверждает Адорно. Ситуацию рабства мешает осознать культура, принимающая форму культурной индустрии, т. е. поточного производства стандартизированных образов. Их задача в том, чтобы развлекать и вместе с тем представлять наличный общественный строй как безальтернативный. Именно поэтому для представителей Франкфуртской школы культура стала главной мишенью.
Итак, люди стали взаимозаменяемыми предметами, человеческие отношения уподобились товарообмену, мир превратился в идеологию, но не исключено, что вы, читая эти строки, невольно усмехнетесь — ну потому что сколько уже можно мусолить этот ваш «культурный марксизм», 2022 год на дворе! Однако смеяться особо не над чем: как пишет Адорно, «от критики буржуазного сознания остается лишь пожимание плечами, жест, которым все врачи всегда выражали свой тайный сговор со смертью».
Впрочем, градус серьезности, с которым автор налегает на критику («острóта — это самоубийство замысла»), действительно вызывает улыбку. Адорно разносит все, что попадает в «суженное личное пространство интеллектуала в эмиграции»: скорые поезда, хостес, моду, институт брака, разводы, интеллектуалов, пролетариат, художников, католиков, виски, зоопарки, кино, мужские клубы, бег, социалистов, позитивистов, букеты, благотворительность, автомобили, анекдоты, комиксы, оккультизм, светскую жизнь, эмигрантов, СМИ, ясные высказывания, прогресс, регресс, искусство, Гегеля, лохнесское чудовище (список можно продолжать) — и, разумеется, за дело. Однако если бы Адорно дожил до наших дней, то не исключено, что его размышления в конце концов приобрели бы сходство с заключительными фрагментами писем к Мартину Алексеевичу.
Судите сами: порассуждав о том, что рационализация устранила сам принцип культуры, Адорно, небедный человек, жалуется, что портье уже не в состоянии прочесть желания постояльцев по их лицам, а официанты не разбираются в блюдах, причиной чему «пиррова победа фетишизированного производства».
Комический эффект усиливают россыпи афоризмов:
«Первый и единственный принцип сексуальной этики: обвиняющий всегда неправ»;
«Невозможность в отсутствие какого-либо абсолюта мыслить, счастливо жить или вообще просто жить не свидетельствует о легитимности такого мышления»;
«Неподготовленного человека нагромождение уродливых ненужных вещей пугает их родством с произведениями искусства»;
«Латинское выражение omne animal post coitum triste — это измышление, продиктованное буржуазным презрением к человеку: ни в чем ином человеческое начало так не отличается от животной грусти, как в этом» и т. д.
Адорно частит с афоризмами, хотя они как будто не лучшим образом подходят для решения его задач: подобные изящные сентенции просятся в паблик «Мудрость веков» или «Мысли великих», и дело тут не в глубинах нашего регресса. Автор, прямо скажем, не слишком заботится о прозрачности своих текстов, даже скорее стремится к противоположному (ибо «ценность мысли измеряется ее дистанцией по отношению к последовательности уже известного»), а ясно изложенные фрагменты выскальзывают из потока его мысли — и, как правило, с ущербом для силящегося их понять.
Щадит философ немногое — лишь островки французской культуры и сценки из собственного детства, в них сквозь метель горького письма вдруг проступают и тут же гаснут золотые искры: «Мое самое первое воспоминание о Брамсе, и наверняка не только мое, связано с его песней „Добрый вечер, доброй ночи!“. Тогда я совершенно неправильно понял текст: я не знал, что слово Näglein означает „сирень“, а в некоторых местностях — „гвоздика“, и представлял себе гвóздики, вроде шпилек, которыми плотно зашпилена занавесь перед кроваткой с балдахином — моей кроваткой, — так что ребенок, защищенный в своем темном уголке от малейшего лучика света, мог, не пугаясь, спать сколько угодно <...> Ничто столь уверенно не гарантирует нам незамутненную ясность света, как лишенная сознания темнота; ничто так не ручается за то, чем мы могли бы когда-нибудь стать, как мечта о том, чтобы нам никогда не родиться».
Местами этот неомарксистский бунт против современного мира кажется созвучным тому, что формулировалось в те же годы на консервативном фланге философского спектра. Но Адорно не зовет читателя в лес и не тешит автономией элитарного субъекта. Столь важная для него интеллектуальная дистанция — это «противоядие к отчуждению», «поле напряжения» мысли, а сам субъект должен не бежать от мира, но найти баланс «свободного и солидарного сотрудничества при условии несения общей ответственности». И уж конечно, он не ищет никаких идеалов в прошлом, будь то одухотворенное Средневековье или благодатная Античность: «Поздняя аттическая комедия и эллинистическое прикладное искусство — это уже китч, хотя они еще и не владеют техникой механического воспроизведения <...> Когда читаешь развлекательные романы столетней давности, например, Купера, то обнаруживаешь в них зачатки всей голливудской схемы».
Кто же говорит с нами? Сноб и брюзга без чувства юмора? Безусловно. (Впрочем, нельзя сказать, что Адорно совсем чужд иронии, см. хотя бы названия его фрагментов, или же самокритики — он даже готов признать, что Сати круче Шенберга!) Помогает ли нам это понять Minima Moralia? Не слишком.
А между тем это лучшая книга для знакомства с главным принципом мысли Адорно, который, будучи приложен к самым разным предметам, начиная с любви и заканчивая мебелью, придает его критике настоящую уникальность. Принцип заключается, собственно, в том, чтобы мыслить негативно-диалектически (до предела он будет доведен в «Негативной диалектике» (1966), которую, напомним лишний раз, не рекомендуется читать в переводе Е. Л. Петренко). Развивая гегелевскую идею мышления как негативного процесса, отрицающего наличное, Адорно вместе с тем отрицал и гегелевскую идею синтеза, якобы снимающего любые противоречия. Автор Minima Moralia считал такой подход капитуляцией и видел (утопическую) задачу мысли в том, чтобы схватить мир в его неустранимой противоречивости и парадоксальности. Эта задача носит характер моральной максимы.
Отсюда его манера постоянно сталкивать и расщеплять вещи, выбивать табурет из-под ног у себя и читателя — философ называл это «жестом Мюнхгаузена, которым он тащит себя за косу из болота» (во многом схожую манеру усвоили Жижек и Деррида). Поэтому в Minima Moralia многие фрагменты заканчиваются выворачиванием тезиса наизнанку, а также нередко откровенно противоречат друг другу. Такая запутанность, с точки зрения Адорно, позволяет надорвать «господство всеобщего».
В своей непоследовательности автор чрезвычайно последователен, чего, увы, нельзя сказать о работе редакторов книги: сноски с переводами иностранных слов в середине издания исчезают, потом снова появляются, и принцип составления комментариев тоже не вполне очевиден — почему, скажем, к слову «седиментированный» пояснение есть, а к слову «стрингентность» нет?
Общество рациональной сметки, переходящей в людоедство, представляется философу столь тотальным и непоколебимым, что он видит выход лишь в мелких прорывах бесполезности, бесцельности, странности. В крохотных человеческих проступках, на примере которых мы учимся «обходиться с моралью» (отсюда «минимальность»), и эсхатологическом «избавлении», надеждой на которое заканчивается книга. Культивируя позицию интеллектуала, который «отыскивает наихудшее», Адорно полагал, что катастрофа не подлежит обжалованию: кругом «беззащитные руины», а любые попытки что-либо сделать грозят обернуться лишь новым витком варварства и насилия.
В январе 1969 года, когда протестующие студенты заняли здание франкфуртского Института социальных исследований, Адорно вызвал полицию. Ученики сочли поступок учителя предательством. 22 апреля 1969 года лекцию курса «Диалектическое мышление» прервал голос с галерки, требующий от лектора покаяться за то, что он сдал студентов «быкам». Другой ученик вышел к доске и написал: «Тот, кто позволяет распоряжаться лишь дорогому Адорно, всю жизнь будет поддерживать капитализм». 66-летний мыслитель дал аудитории пять минут, чтобы определиться, хотят ли они слушать лекцию, но тут три студентки с обнаженной грудью окружили его, стали осыпать лепестками роз и пытаться поцеловать. Потрясенный и униженный Адорно в ужасе бежал, прижимая к груди портфель. Это было его последнее выступление на публике. Через четыре месяца он умер от сердечного приступа; ходили слухи, что несчастного философа добила акция «Запланированная нежность» (она же «Атака сисек»).
 Studentenbewegung Universität Frankfurt
Studentenbewegung Universität Frankfurt
Жизнь снова победила смерть неизвестным науке способом. Стихи по-прежнему пишутся, массовая музыка, вопреки предсказаниям Адорно, продолжает фонтанировать новыми идеями, а человечество по-прежнему изредка творит чудеса человечности. Означает ли это, что философ переусердствовал в своем пессимизме, а мы не так уж много можем почерпнуть в Minima Moralia, чтобы лучше понять катастрофу, свидетелями и участниками которой оказались сегодня?
Хотя Адорно не предлагает никаких ясных и общедоступных путей для выхода из тупика, его книга обращена к самому сердцу сегодняшнего дня. В ней есть точные наблюдения о том, как СМИ и пропаганда подготавливают и нормализуют военный кошмар. Есть блестящие фрагменты, обращенные к «реалистам», которые «мужественно» объявляют войну нормой политики, и к тем, кто заглушает ужас верой: якобы в происходящем ничего нового нет, а человечество всегда воевало и будет воевать. Есть едкие пассажи об эмигрантах, «представителях немецкого духа», которые планируют восстанавливать немецкую культуру, симулируя сытые довоенные формы, словно бы «ничего и не было». Есть точные замечания о том, чем оборачивается самоуспокаивающая позиция «мы все равно ничего не можем изменить».
Но самым важным мне кажется соображение более общего плана. Minima Moralia относится к обширному корпусу работ середины XX века, авторы которых пытались понять, почему немецкие социал-демократы проиграли нацистам и как вообще стал возможным фашизм. Сегодня такие исследования приобретают новую актуальность. Как видно из сказанного выше, Адорно подходит указанной проблеме не столько со стороны социологии, политической философии или истории, сколько с позиций неомарксистской критики культуры. Капиталистическое общество и фашизм внутренне связаны. Одно готовит почву для другого. Рыночная логика борьбы за выживание является условием возможности нигилизма так же, как грудолом с необходимостью предшествует взрослому ксеноморфу.
И в этом отношении процессы, которые происходят в путинской России, ничуть не уникальны, а она сама вовсе не является поразительным отклонением на пути «нормального европейского» развития: фашизоидными миазмами чреват сам капитализм, вновь и вновь повторяет Адорно, и ни «рабский менталитет», ни «цивилизационный код» тут ни при чем.
Конечно, сказанное нисколько не отменяет специфики нашей ситуации и уж тем более не дает никому никаких индульгенций. Нет никаких оснований сомневаться в том, кто агрессор и что из этого следует. Однако, как убеждает нас грустный профессор, не только не удивительно, но даже вполне логично, если приватизация приводит к денацификации, эффективные технократы ставят памятники в разбомбленных городах, телеиндустрия милитаризует население и призывает расправиться с инакомыслящими. «Высвобождение индивида за счет выхолащивания полиса [т. е. общества, где человек непосредственно вовлечен в политику. — И. Н.] не усиливает сопротивление, но устраняет его, устраняет даже саму индивидуальность <...>, служит моделью одного из главных противоречий, которые проложили дорогу <...> к фашизму».

