Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Теодор Адорно. Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. Перевод с немецкого Александра Белобратова и Татьяны Зборовской. Содержание
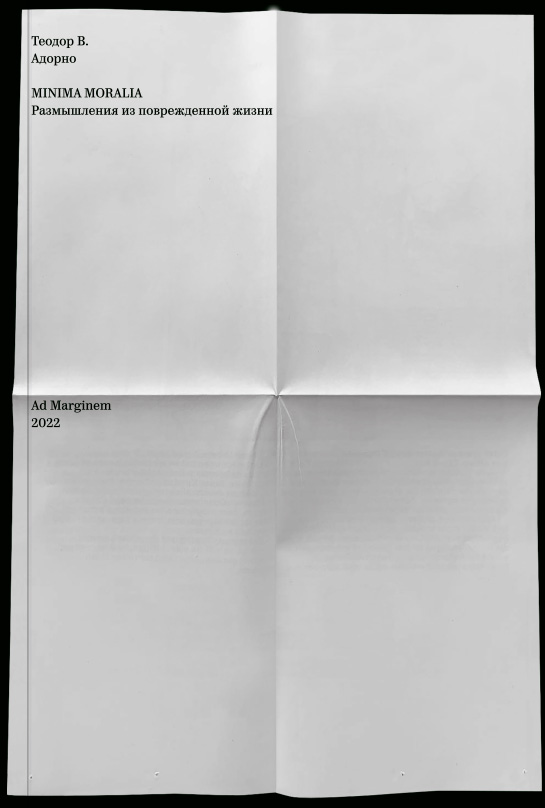 34. Ганс-ротозей. Познание и власть связаны между собой не только через отношение прислужничества, но и через отношение истины. Многие результаты познания без пропорциональной связи с распределением сил ничтожны, пусть даже формально они верны. Если эмигрировавший врач скажет: «Для меня Адольф Гитлер — патологический случай», то даже если клиническое исследование в конце концов подтвердит его высказывание, его несоразмерность по отношению к объективной беде, которая обрушилась на мир во имя параноика, делает диагноз смехотворным, всего-навсего бахвальством диагноста. Возможно, Гитлер «в себе» и есть патологический случай, но он совершенно точно не является таковым «для себя». Тщеславие и убогость многих выступлений эмигрантов против фашизма связана именно с этим. Люди, мыслящие в форме свободного, дистанцированного, незаинтересованного суждения, оказались неспособными облечь в эту форму опыт насилия, которое реальным образом лишает такого рода мышление всякой силы. Почти неразрешимая задача состоит в том, чтобы не допустить оглупления ни под воздействием власти других, ни в результате собственного бессилия.
34. Ганс-ротозей. Познание и власть связаны между собой не только через отношение прислужничества, но и через отношение истины. Многие результаты познания без пропорциональной связи с распределением сил ничтожны, пусть даже формально они верны. Если эмигрировавший врач скажет: «Для меня Адольф Гитлер — патологический случай», то даже если клиническое исследование в конце концов подтвердит его высказывание, его несоразмерность по отношению к объективной беде, которая обрушилась на мир во имя параноика, делает диагноз смехотворным, всего-навсего бахвальством диагноста. Возможно, Гитлер «в себе» и есть патологический случай, но он совершенно точно не является таковым «для себя». Тщеславие и убогость многих выступлений эмигрантов против фашизма связана именно с этим. Люди, мыслящие в форме свободного, дистанцированного, незаинтересованного суждения, оказались неспособными облечь в эту форму опыт насилия, которое реальным образом лишает такого рода мышление всякой силы. Почти неразрешимая задача состоит в том, чтобы не допустить оглупления ни под воздействием власти других, ни в результате собственного бессилия.
35. Возврат к культуре. Утверждение, будто Гитлер разрушил немецкую культуру, — не что иное, как рекламный трюк, придуманный теми, кто желает восстановить ее, не отходя от своего телефонного столика. То, что истребил Гитлер в искусстве и мысли, еще задолго до этого вело отколотое и апокрифическое существование, последний укромный угол которого вымел фашизм. Тот, кто не хотел быть соучастником, за много лет до наступления Третьего рейха вынужден был уйти во внутреннюю эмиграцию: самое позднее — с момента стабилизации немецкой валюты, совпавшего по времени с концом экспрессионизма, стабилизировалась и немецкая культура, воплотившись в духе берлинских иллюстрированных журналов, лишь незначительно уступавшем духу движения «Сила через радость», автобанов рейха и вызывающего выставочного классицизма нацистского режима. В своей широте, и именно в тех областях, где она была наиболее либеральна, немецкая культура неистово тосковала по собственному Гитлеру, и было бы несправедливо упрекать редакторов издательств Mosse и Ullstein, равно как и реорганизаторов Frankfurter Zeitung, в приспособленчестве. Они всегда таковыми были, и их тактика наименьшего сопротивления тому духовному продукту, который они производили, напрямую продолжилась в тактике наименьшего сопротивления тому политическому господству, среди идеологических методов которого, по собственному высказыванию фюрера, главное место занимает стремление быть понятным даже самым недалеким. Это привело к роковой путанице. Гитлер уничтожил культуру, Гитлер изгнал Людвига — стало быть, Людвиг и есть культура. И он ею в действительности является. Если взглянуть на литературный продукт тех эмигрантов, которые благодаря дисциплине и четкому разделению сфер влияния добились того, что стали «представителями немецкого духа», можно понять, чего нам следует ожидать от радостного восстановления: внедрения бродвейских методов на Курфюрстендамм, еще в двадцатых годах отличавшемся от Бродвея лишь меньшим арсеналом средств, а не возвышенностью целей. Тот, кто намерен противостоять культурному фашизму, пусть начнет с Веймара, Бомб над Монте-Карло и балов для прессы, если не хочет в итоге обнаружить, что такие двойственные персонажи, как Фаллада, при Гитлере говорили больше правды, чем недвусмысленно выражавшие свою позицию знаменитости, которым удалось осуществить переправку своего престижа за границу.
36. Здоровье к смерти. Если бы можно было осуществить нечто вроде психоаналитического исследования прототипичной нынче культуры, если бы абсолютное господство экономики не обращало в насмешку любую попытку объяснить нынешнее состояние, исходя из душевной жизни его жертв, и если бы сами психоаналитики давным-давно не присягнули на верность этому состоянию, то подобное исследование подтвердило бы, что соответствующая времени болезнь как раз и заключена в нормальном. Либидинозные достижения, которых требуют от индивида, демонстрирующего душевное и физическое здоровье, таковы, что осуществить их можно только за счет нанесения тягчайших увечий, за счет интериоризации кастрации у extroverts, в сравнении с чем прежняя задача идентификации с отцом предстает детской забавой, в ходе которой потребность в этой идентификации и была затвержена. Regular guy и popular girl приходится вытеснять не только свои желания и знания, но и все те симптомы, которые в буржуазные времена из этого вытеснения проистекали. Как прежняя несправедливость не была исправлена щедрым обеспечением масс светом, воздухом и гигиеной, а была лишь прикрыта мерцающей прозрачностью рационализованного действа, так и внутреннее здоровье эпохи заключается в том, что она отрезала себе путь к бегству в болезнь, ни в малой степени не изменив ее этиологию. Темные сортиры ликвидировали как постыдную растрату площадей, перенеся отхожие места в ванные комнаты. Подтвердились подозрения психоанализа, зародившиеся еще до того, как он сам стал средством гигиены: там, где светлее всего, втайне господствуют фекалии. Стихотворные строки «Нищета пусть остается, как была. / Ты искоренить ее не можешь разом, / Но сделаешь невидимой глазу» в отношении домохозяйства души еще более справедливы, чем в отношении тех областей, где обилие товаров временно заставляет поверить, будто нет никакого неудержимо увеличивающегося разрыва между уровнями материального благосостояния. Никакая наука по сей день не в состоянии проникнуть в те глубины преисподней, где формируются психические деформации, позднее проявляющиеся как веселость, открытость, обходительность, удачное приспособление к неизбежному и как здравый смысл, не омраченный рассуждениями. Это дает основания предположить, что подобные деформации относятся к еще более ранним стадиям детского развития, чем первопричины неврозов: если неврозы есть результат некоторого конфликта, в коем подавляется влечение, то состояние, которое можно считать нормальным лишь в той же степени, что и поврежденное общество, которому оно подобно, является результатом некоего как бы доисторического вмешательства, надламывающего душевные силы прежде, чем дело вообще доходит до конфликта, — и последующая бесконфликтность отражает предрешенность, априорный триумф коллектива как инстанции, а не исцеление через познание. Спокойствие и отсутствие нервозности, уже ставшие залогом того, что обладающие данными качествами претенденты получают более высокооплачиваемые должности, являют собой картину того подавленного молчания, которое руководство менеджеров по персоналу лишь позднее насаждает политически. Диагностировать болезнь здоровых людей можно лишь объективно, выявив несоответствие их рационального жизненного поведения и того назначения их жизни, которое можно было бы разумно предположить. И всё же след болезни дает о себе знать: они выглядят так, будто на их коже пропечаталась сыпь с правильным и ровным рисунком, будто они мимикрируют под неорганику. Еще немного, и можно было бы посчитать тех, кто всеми силами демонстрирует свою бодрость, живость и бьющую через край силу, препарированными покойниками, которых из соображений демографической политики не стали информировать об их не совсем удавшейся смерти. На дне царящего здоровья покоится смерть. Все их движения похожи на рефлекторные движения существ, у которых остановилось сердце. Разве что как-нибудь изредка — то в злополучных морщинах на лбу, свидетельстве необычайного, но давно забытого умственного напряжения, то в патологической глупости, проскальзывающей в четкой логической цепочке, то в беспомощном жесте — с трудом сохраняется след улетучившейся жизни. Ибо требуемая обществом жертва настолько универсальна, что обнаруживается не в единичном человеке, а лишь в обществе в целом. Общество как бы переняло совокупную болезнь всех единичных людей, и в ней, в накопленном сумасшествии фашистских деяний и во всех бесчисленных предшествовавших им формах и опосредованиях, субъективная беда, сокрытая в индивиде, интегрируется с видимой и объективной. Безотрадна, однако, мысль о том, что болезни нормального не противостоит необходимым образом здоровье больного, но что последнее чаще всего лишь представляет собой вариант всё той же беды, только на иной лад.
37. По эту сторону принципа удовольствия. Репрессивные черты у Фрейда не имеют ничего общего с той нехваткой доброжелательности, на которую указывают прилежные сторонники пересмотра строгой сексуальной теории. Профессиональная доброжелательность ради выгоды имитирует близость и непосредственность там, где никто ничего не знает о другом. Она обманывает свою жертву, в слабости жертвы позитивно утверждая ход вещей, который и привел жертву к такому состоянию, и обращается с жертвой в той же мере несправедливо, в какой она отступает от истины. Если бы Фрейду недоставало подобной доброжелательности, то он по меньшей мере оказался бы в стане критиков политической экономии, что явно лучше, чем оказаться в обществе Тагора и Верфеля. Фатальность, скорее, в том, что он, вопреки буржуазной идеологии, материалистически возводил сознательное поведение к лежащему в его основе бессознательному влечению, одновременно, однако, соглашаясь с буржуазным пренебрежением к влечению — пренебрежением, по сути своей являющимся продуктом той самой рационализации, которую Фрейд ниспровергает. Фрейд, как говорится в его лекциях, явным образом принимает «общую оценку, ставящую социальные цели выше сексуальных, эгоистических в своей основе». Как специалист-психолог он принимает противоположность между социальным и эгоистическим по умолчанию, без проверки. Он не опознает в ней ни производной репрессивного общества, ни следа тех роковых механизмов, которые сам же и обозначил. Скорее, не выстраивая никакой теории и подчиняясь предрассудку, он колеблется в отношении того, должен ли он отрицать отказ от влечений как противостоящее реальности вытеснение или восхвалять его как сублимацию, стимулирующую развитие культуры. В этом противоречии объективно живет нечто от янусоподобного характера самой культуры, и никакая хвала здоровой чувственности не в состоянии его сгладить. Однако у Фрейда из этого возникает обесценивание критического масштаба цели анализа. Непросвещенное просвещение Фрейда играет на руку буржуазной дезиллюзии. Поздно ополчившись против лицемерия, он находится в двусмысленном положении между волей к неприкрытой эмансипации подавленного и апологией неприкрытого подавления. Разум для него лишь надстройка — не только (как в том винит его официальная философия) из-за его психологизма, который достаточно глубоко проникает в историчность истины, но в куда большей степени из-за того, что он отвергает бессодержательную, неразумную цель, единственно по отношению к которой разум мог бы выказать себя разумным средством, — а именно удовольствие. Как только удовольствие, умаляя его ценность, относят к ухищрениям, предпринимаемым с целью сохранения вида, и как бы растворяют в изворотливом разуме, так что в удовольствии утрачивается момент, выходящий за пределы круга подчиненности природе, тут же разум (ratio) низводится до рационализации. Истину вверяют относительности, а людей — власти. Лишь тот, кто смог бы локализовать утопию внутри слепого соматического удовольствия, не имеющего намерения и одновременно его питающего, был бы способен породить такую идею истины, которая выдержала бы испытание. Однако в работах Фрейда невольно воспроизводится двойная враждебность по отношению к духу и к удовольствию, распознать общий корень которых как раз и помогли средства психоанализа. То место в Будущем одной иллюзии, где, преисполнившись уничижительной мудрости видавшего виды старика, Фрейд цитирует коммивояжерскую сентенцию о небе, которое нам следует оставить ангелам и воробьям, представляет собой параллель к пассажу из Введения в психоанализ, где он в ужасе предает анафеме принятые в обществе практики извращений. Те, кто испытывает одинаковое отвращение к удовольствию и к небесам, и в самом деле более всего пригодны быть объектами: пустоту и механическое поведение, которые столь часто наблюдаются у пациентов, успешно прошедших анализ, следует отнести не только на счет их болезни, но и на счет их излечения, ломающего то, что оно освобождает. Восхваляемый в терапии перенос, решение проблемы которого неслучайно является главной целью аналитической работы, эта изощренная ситуация, когда субъект добровольно и зловеще осуществляет то же перечеркивание самого себя, какое ранее счастливо-недобровольным образом вызывала самоотдача, уже является схемой рефлекторного поведения, которое в следовании за вожаком вместе с духом ликвидирует и предавших его аналитиков.
