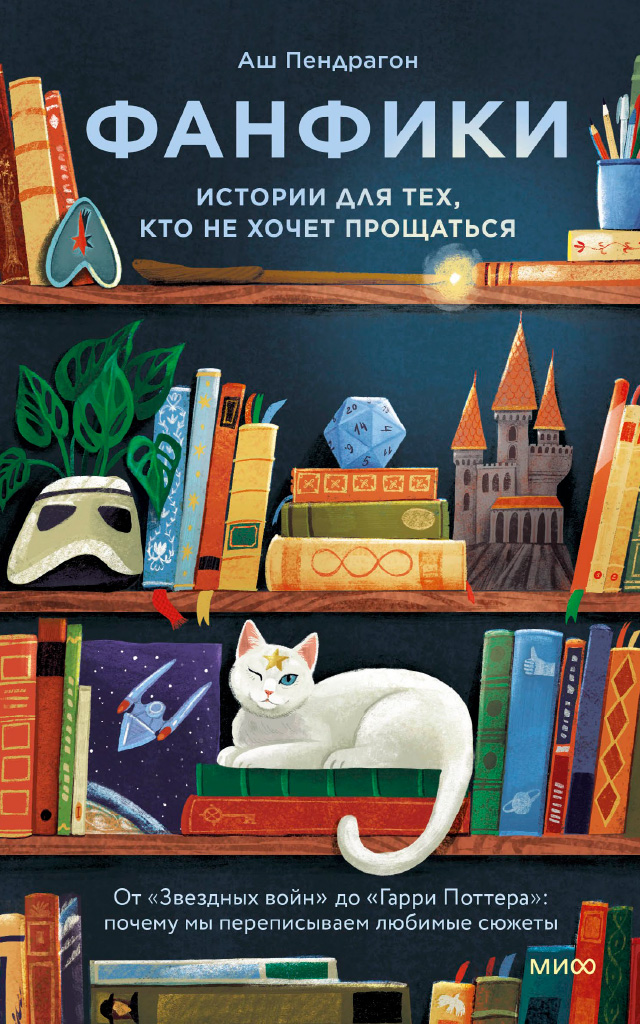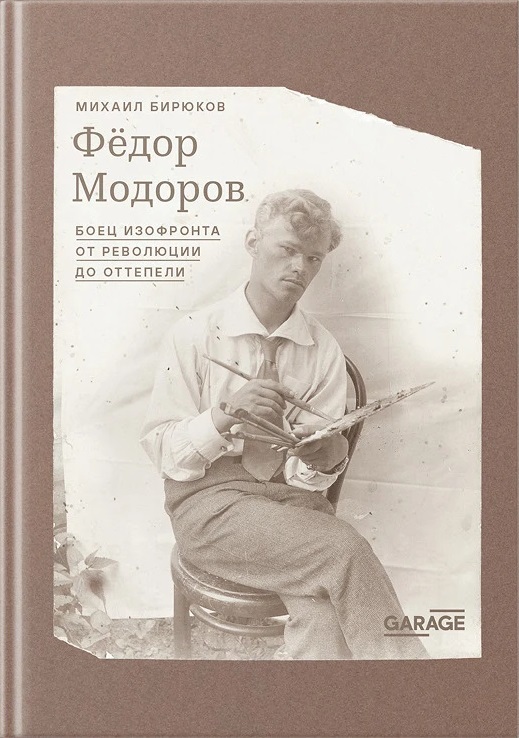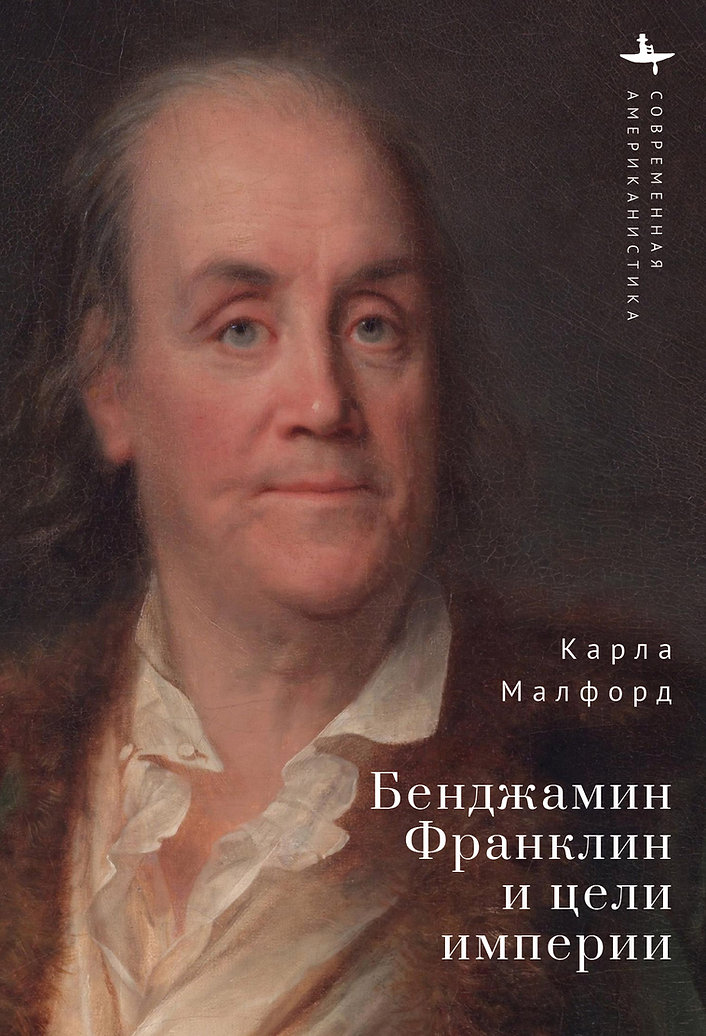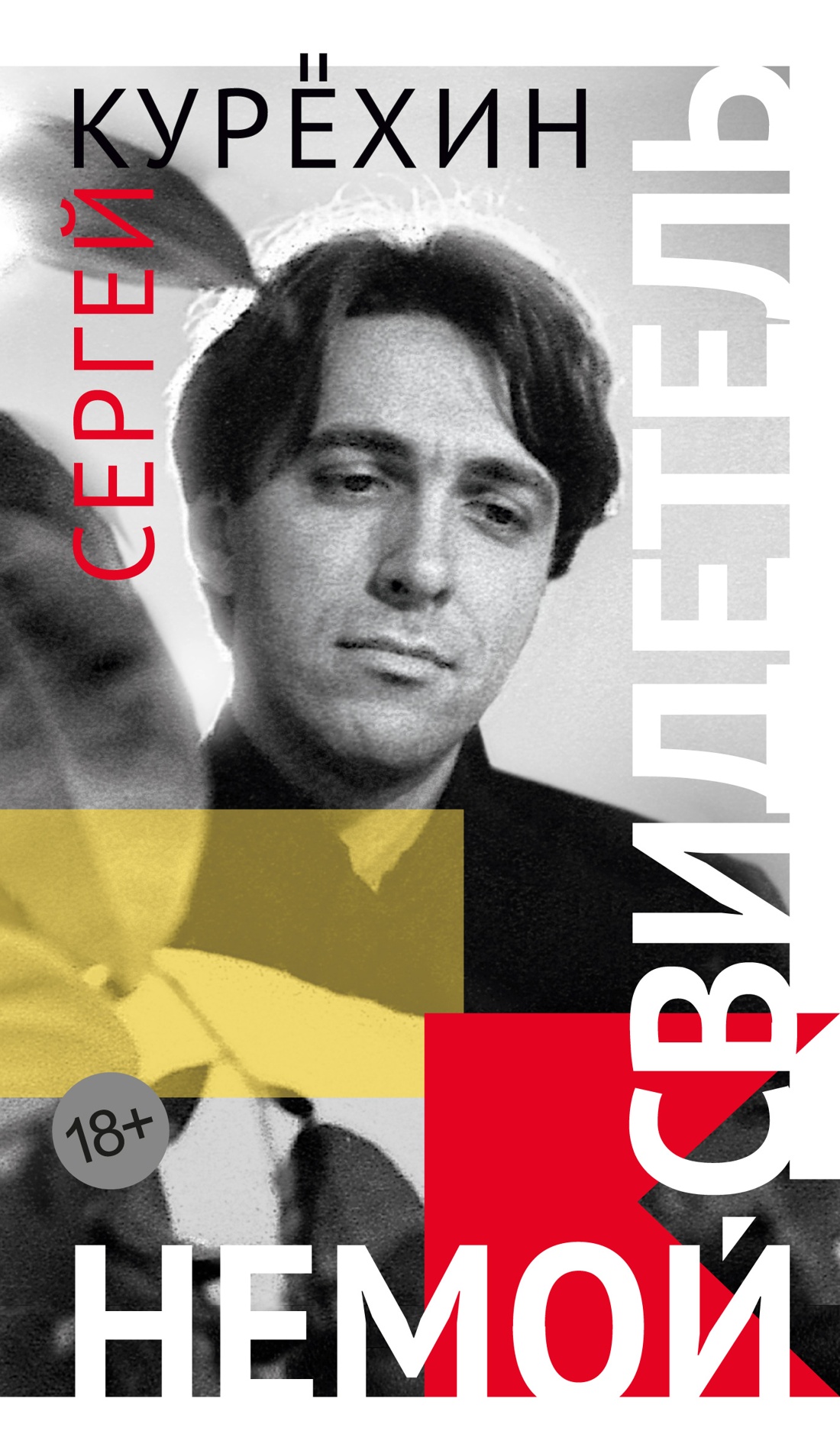Советский джазмен свингует, как лось: книги недели
Что спрашивать в книжных
Манифест туризма как философии, переиздание сборника текстов Сергея Курехина, литературная биография Бенджамина Франклина, апология фанфиков и правдивый путеводитель по жизни соцреалиста Фёдора Модорова: редакторы «Горького» рассказывают, какие новинки показались им интереснее прочих на уходящей неделе.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Аш Пендрагон. Фанфики: истории для тех, кто не хочет прощаться. М.: МИФ, 2025. Содержание
|
Почему многим людям тяжело читать классические романы в нескольких томах, но при этом они же могут за день проглотить фанфик того же объема? Кто-то скажет, что дело во вкусах презренной толпы, «настоящей» литературе предпочитающей легкое развлекательное чтиво. Возможно, этот ответ верен, однако он категорически не устраивает автора этого обстоятельного очерка о «вторичных» произведениях массовой культуры.
Пик популярности фанфиков и соответствующих сообществ пришелся на пандемию ковида и продолжается до сих пор. Это позволяет автору говорить о том, что в хорошо знакомых мирах люди склонны находить зону комфорта, точку безопасности посреди хаоса объективной реальности. Кроме того, для многих молодых и не очень молодых людей участие в субкультуре становится чуть ли не единственным средством преодолеть социальную изоляцию и отчуждение. В этом Аш Пендрагон находит социальное измерение фанфиков, но им не ограничивается.
Автор напоминает: как и любые произведения масскульта, фанфики бывают самые разные по качеству, содержанию, целевой аудитории. Некоторые романы про Конана ничуть не уступают, а то и превосходят оригинал Говарда, вселенная Лавкрафта полна поистине удивительных продолжений и ответвлений, созданных через многие годы после его смерти, да и вообще поп-культура так называется не потому что она плоха, а потому что она популярна.
«Важным шагом является выход таких проектов, как книга Джея Эшера „13 причин почему“ (2007) и последующая экранизация в виде суперуспешного сериала (2017). Темные тайны подростков вскрывались, как болезненный нарыв, что вызвало бурную реакцию общественности. С 2010 по 2019 год роман Эшера даже запрещали в школах и библиотеках США. Несмотря на то что по этому произведению, очевидно, не так много фанфиков (на одном из самых популярных англоязычных сайтов чуть больше двух тысяч по сериальной версии, а на русскоязычном — около шести сотен), это интересный пример, который показывает, как находят у читателей отклик даже столь мрачные и тяжелые истории».
Хироки Адзума. Философия туриста. М.; Владивосток: Ад Маргинем Пресс. Перевод с японского Валентина Матвеенко. Содержание. Фрагмент
|
«Быть туристом позорно, туризм — развратное зло», — говорил классик отечественной национальной мысли.
С этим утверждением категорически не согласен японский философ, культурный критик и издатель Хироки Адзума. Для него туризм — занятие стремящихся к мудрости, пониманию того, как устроен мир во всем его многообразии. Само же слово «турист» на страницах этой книги выступает как заменитель заезженного и дискредитированного «Другого».
Речь здесь, конечно же, идет не о попивании коктейлей на Лазурном берегу, не о дежурных походах по музеям и тому подобных праздных развлечениях. Так, после аварии на Фукусиме философ отправился за поиском ответов на возникшие у него вопросы на другой край света — в Чернобыль. Оттуда он вернулся с целым планом туристического преобразования японской АЭС. Однако этим не ограничился и начал устраивать экскурсии в Чернобыль для таких же туристов в высоком смысле слова.
И вот интересное наблюдение: большинство участников этих экспедиций удивило то, что Чернобыль оказался невероятно «обычным», — они не обнаружили и следа общих культурных представлений о Припяти и окрестностях как бесплодной земле мрака и скорби. Для японцев (и не только) это важное знание: даже на самой страшной трагедии жизнь не кончается, если не проводить знак окончательного равенства между катастрофой и территорией, на которой она произошла.
Впрочем, одними только географическими перемещениями Адзума не ограничивается и пользуется случаем поделиться своим опытом путешествий, например, в книги Достоевского, Солженицына, Деррида.
«Турист дрейфует по посещаемым местам, словно фланер. Он схватывает формы мира случайным взглядом. Словно покупателя, разглядывающего витрины, его привлекает то, на что он случайно наткнется, и те, кто ему случайно повстречается. Потому иногда он открывает для себя то, что не открывается обитателям посещаемых им мест».
Михаил Бирюков. Фёдор Модоров: боец изофронта от революции до оттепели. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2025. Содержание
|
Писать книги о художниках вроде Фёдора Модорова (1890–1967) в последние десятилетия не было принято: действительно, что можно сказать содержательного об успешном соцреалисте, на самых известных картинах которого товарищ Сталин проводит заседание политбюро, принимает партизан или с доброй улыбкой осматривает результаты подневольного труда? Но, как выяснилось, все не так однозначно: во время работы над книгой о Мстёрской художественной коммуне Михаил Бирюков, изучая архивные документы, пришел к выводу, что Модоров — гораздо более сложная фигура, чем кажется на первый взгляд, и потому его жизнь и творчество заслуживают подробного рассмотрения на фоне эпохи (собственно биографических подробностей известно не так уж много). По мысли автора, наши представления об истории советского искусства до сих пор искажены из-за развернувшегося в 1920-е годы противостояния между героическими реалистами и левыми формалистами, и если сперва безоговорочно победили первые, то с падением СССР ситуация изменилась на прямо противоположную, так что теперь любой маломальский авангардист это ого-го, а оппоненты новаторов чуть не поголовно записаны в число бездарей. Ради восстановления исторической справедливости и усложнения упрощенной картины и была создана эта книга, главный герой которой не только кое-что представлял собой по художественной части, но и был, к счастью или к несчастью, характерным выразителем многих ключевых исторических тенденций.
«Фёдор Модоров совершенно неразличим в противостоянии 1928-1929 годов, впрочем, как не был он заметен и в предыдущих внутриахрровских баталиях. Совершенно понятно, что он чуждался атмосферы любого конфликта. Из всего опыта борьбы, которая выпала ему на долю со времен распрей вокруг Академии художеств, последующего краткого периода увлечения политикой, истории самоутверждения в должности руководителя Мстёрских Свомас и болезненного процесса реабилитации от возведенных на него наветов, Модоров сделал определенные жизненные выводы, придерживаясь их в дальнейшем. В таком выборе не было никакого насилия над собой, скорее наоборот: природная скромность, сдержанность, ревностная забота, как бы не уронить собственное достоинство, при известном равнодушии к абстрактным идеям располагали к тому, чтобы оставаться над схваткой».
Карла Малфорд. Бенджамин Франклин и цели империи. СПб.: БиблиоРоссика, 2025. Перевод с английского Н. Вахтиной. Содержание
|
Исследовательница характеризует увесистый, без малого 600-страничный труд как литературную биографию. Это следует понимать не в том смысле, что жизнь, вероятно, величайшего отца-основателя США подается в духе журнала «Караван историй» («когда он занес перо над Декларацией независимости, в его голове пронеслись картины отчего дома — там всегда пахло мылом и свечными огарками» и т. д.), а с тем подразумеванием, что особое внимание уделяется литературным свойствам многочисленных текстов и выступлений Франклина. Иными словами, историка интересуют не только идеи, но и то, как автор стремился их донести.
Главная сюжетная коллизия, если это выражение применимо к историческому труду, заключается в следующем. Согласно популярной точке зрения, Франклин оставался беззастенчивым и убежденным роялистом, верным слугой Британской империи до тех пор, пока Александр Уэддерберн не унизил его на публичных разбирательствах в 1774 году. Франклин пытался наладить отношения между метрополией и колонистами, однако прилюдная порка убедила его, что Лондон не хочет слышать умеренные голоса, — и тогда он резко превратился в борца за независимость колоний.
Малфорд же показывает, что взгляды политика эволюционировали плавно и логично, опираясь на идеи раннего либерализма, впитанные Франклином в юности. Описана эта эволюция чрезвычайно обстоятельно, даже увлекательно и, конечно же, аргументированно, поскольку муж, чей портрет украшает 100-долларовую купюру, был очень усерден в убеждении своих сторонников и противников, чему свидетельство множество документов.
«В публичных выступлениях Франклина неизменно наблюдается признание человеческих слабостей — особенно эгоизма и сребролюбия — и человеческих возможностей. Многие отмечали, что демократический настрой Франклина был необычен для федерального конвента. В своем последнем слове на этом собрании он идеалистически охарактеризовал создаваемое правительство и выразил свое радикальное понимание важности солидарности. То, что произошло за закрытыми дверями конвента, будет иметь глобальные последствия. По этой причине Франклин рекомендовал всем присутствующим в зале признать, что они могут ошибаться, пойти на небольшой компромисс и встать единым фронтом за новую федеральную Конституцию».
Сергей Курехин. Немой свидетель. СПб.: Азбука, 2025. Содержание
|
Художнику Сергею Курехину, обладателю партбилета НБП с номером 418, в жизни все блестяще удавалось — за одним исключением: он слишком рано умер, чего, к сожалению, не сделали вовремя основатели указанной партии (хотя, очень возможно, что именно в этом музыканту удалось соблюсти идеальный тайминг). В силу обстоятельств мы почти не видим мысль и творчество Сергея Анатольевича в становлении, а вынуждены ограничиваться радикальным прото-супом из приемов и методов, которым он кормил аудиторию и кормился сам в первой половине 1990-х.
Собственно, переиздание сборника 2000 года, дополненного статьей «Морфология Поп-механики», представляет собой кастрюлю оного супа, сваренную из заметок, сценариев, либретто, одинокого интервью автора с самим собой и т. д.; можно и нужно не только читать, но и шелестеть, втирать в десна, смотреть с прищуром через страницы на просвет в дисплей ноутбука и делать многие иные бодрящие вещи (так-то и сборник, и статья имеются в свободном доступе в сети).
«Несмотря на то что советский джазмен свингует, как лось, советский джаз — это вообще не музыка, а своеобразная форма хасидизма. Российский джаз так и выродился, то же самое происходит и с роком: *** [плохой] детерминизм! Нужно отдать корабли. Почему я так люблю японцев? Японцы играют ту же *** [бредятину], что и американцы, но благодаря особому преломлению музыка приобретает новый смысл».
«Жириновский — тоже очень милый и симпатичный человек. Играть роль полуидиота его заставляют. Скорее всего — это Бурбулис, фамилия Бурбулис этимологически связана с Карабасом-Барабасом, и тогда сразу становится видна его сущность. А от сущности до бытия — один шаг, как любил говорить покойный Хайдеггер. Линия Маркс — Энгельс — Бурбулис — Карабас-Барабас еще ждет своего исследователя. Кстати, мне недавно сказали, что Маркс и Энгельс — не муж и жена, а три абсолютно разных человека».
И т. д.