Рабочий треста «Скотооткорм»
О книге Глеба Морева «Иосиф Бродский: годы в СССР»
Источник фото: музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского
Новая книга Глеба Морева, посвященная первой, советской половине жизни Иосифа Бродского, представляет собой удачный пример пересмотра привычных биографических клише, сложившихся со времен выхода в свет предыдущего жизнеописания поэта. Так считает Юрий Левинг, с материалом которого мы предлагаем ознакомиться читателям «Горького».
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Глеб Морев. Иосиф Бродский: годы в СССР. Литературная биография. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание, фрагмент
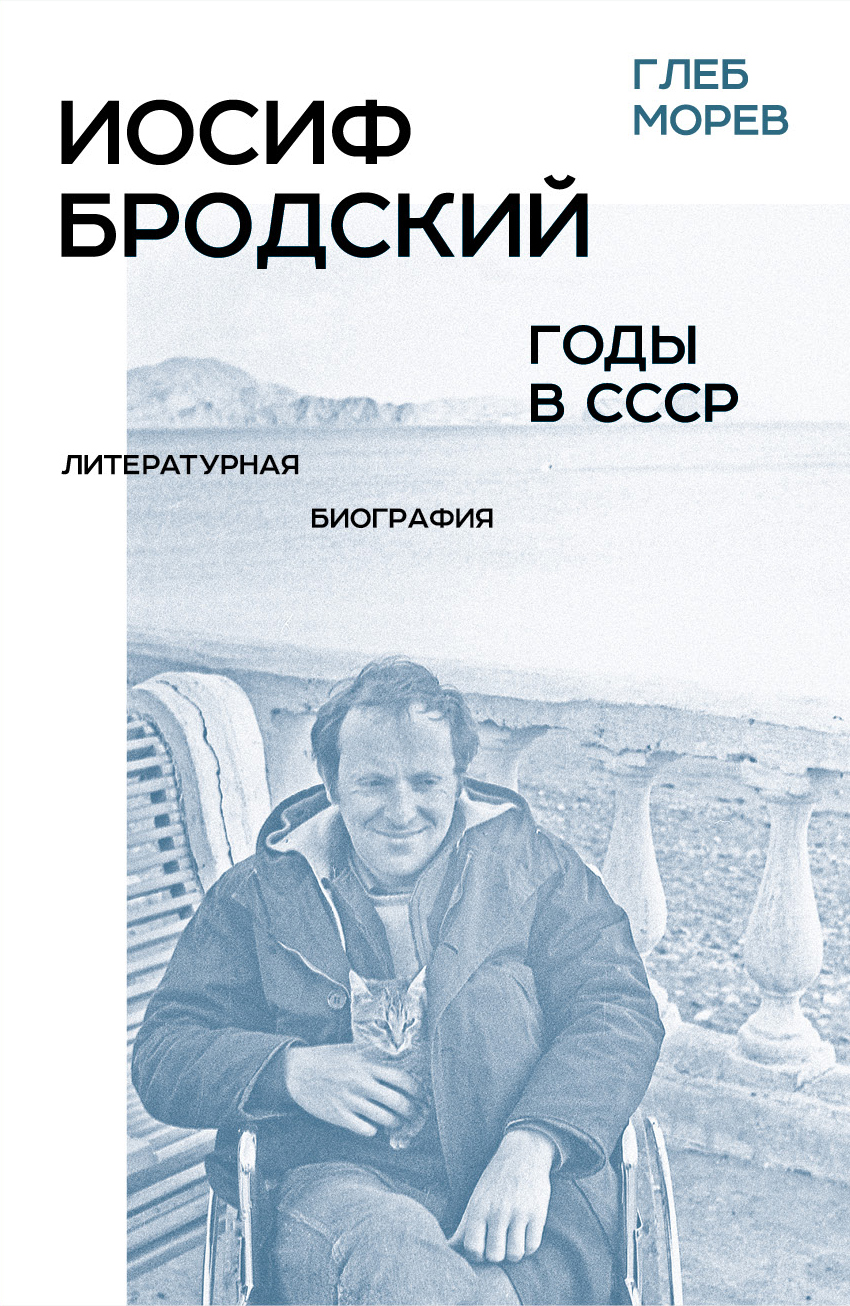
Со времени выхода первой литературной биографии Иосифа Бродского, написанной Львом Лосевым, поэтом и другом заглавного героя, прошло двадцать лет. Не такой уж и долгий срок, обусловливающий необходимость появления нового биографического исследования, особенно в случае автора, чье полное академическое собрание сочинений кажется делом настолько далекого будущего, что не приходится даже загадывать, когда его увидит читатель. Тем не менее интерес к фигуре нобелевского лауреата за годы, минувшие после публикации пионерского труда Лосева, продолжал расти. Имя Бродского закрепилось в каноне русской поэзии двадцатого века, творчество его стало предметом филологических диссертаций и монографических штудий. При этом человеческий образ поэта исполнен противоречий, а некоторые его тексты в восприятии части читательской аудитории балансируют на грани этической контроверзы. Именно в таком контексте следует читать новую книгу известного филолога Глеба Морева «Иосиф Бродский: годы в СССР», только что вышедшую в издательстве «Новое литературное обозрение».
Архив Бродского с материалами до 1972 года находится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, однако значительная его доля в настоящее время закрыта для исследователей решением наследников поэта. Перед Моревым стояла задача не из легких, и он с ней блестяще справился: написать о жизни и творчестве автора почти исключительно по открытым источникам, изучая малодоступные публикации, сравнивая разночтения, в ряде случаев впервые вводя в научный оборот маргинальные документы, полагаясь на чутье и исследовательскую удачу. Результатом стало не только более нюансированное понимание биографической канвы Бродского до его переезда на Запад, но и пересмотр некоторых ключевых моментов этого жизнетворчества. Морев убедительно демонстрирует, что Иосиф Бродский выстраивал свою литературную биографию именно как жизненный проект — и в реальном режиме, и ретроспективно, когда отвечал в интервью на вопросы собеседников, касавшиеся событий прошлого.
До сих пор первая, советская половина жизни Бродского сводилась к нескольким упрощенным парадигматическим узлам: несостоявшаяся попытка угона самолета; знаменитый фарс-судилище; слова Ахматовой про биографию, которую «делают нашему рыжему»; разрыв поэта с его музой Мариной Басмановой; выдворение из Советского Союза… Морев останавливается на каждом из переломных этапов в судьбе Бродского, подвергая их тщательной ревизии. Этот опыт можно сравнить с присутствием в автомобильной мастерской, когда на глазах изумленного владельца по частям разбирают мотор его винтажной машины: сначала биограф кисточкой стряхивает с деталей наносную пыль полувекового мифа, затем погружает их в историко-литературный раствор, скептически поворачивает каждую по отдельности, рассматривая на свету, чтобы в конце каждой главки все вновь методично собирать в работающую модель. В итоге перед нами все те же очертания знакомого авто, но рык двигателя, несмотря на пробег, в новой литбиографии звучит гораздо увереннее и объемнее. Продолжая метафору, можно предсказать, что в случае поэта Бродского предпринятая Моревым аналитическая деконструкция не является последним походом в сервисную станцию: когда истекут сроки запретов и откроются архивы, в том числе Комитета государственной безопасности, допекавшего гонимого поэта, понадобится очередная проверка. Пока же биограф приглашает нас в путешествие по извилистым маршрутам советской идеологии и мутноватого культурного ландшафта 1960–1970-х годов, исходя из возможного на сегодняшний день.
Повествование разбито на восемь глав. Начинается оно с того, чем по логике должно было бы закончиться, — первая часть озаглавлена «Побег в Америку». Здесь отправной точкой Мореву служит малоизвестный ранний рассказ Бродского «Вспаханное поле» (1961), вошедший в самиздатовское собрание сочинений поэта под редакцией В. Марамзина. Как показывает Морев, план молодого Бродского и его приятеля Олега Шахматова по угону самолета в Иран на американскую военную базу послужил фактической основой этого текста. Позднее признание подельника поэта представителю КГБ в нереализованной попытке побега впервые заставило компетентные органы обратить внимание на Бродского и включить его и представителей его ближайшего круга в агентурную разработку. Как отмечает Морев, в ту пору у Бродского сложилась специфическая репутация литератора, не вписывавшегося в устоявшийся контекст советской литературной жизни: выступая на площадках различных литературных объединений, формально он не принадлежал ни к одному из них и, следовательно, с точки зрения партийного начальства, оставался «абсолютно бесконтрольным» (определение М. Золотоносова). Выбор модели литературного поведения молодым поэтом Морев формулирует так: либо, подобно Ахматовой, оставаться в нелегальном поле, либо пробиваться в печать с помощью компромиссов, как это делало большинство заурядных советских стихотворцев. Вместе с другими «ахматовскими сиротами» Бродский на этой развилке принимает очевидное для себя решение, предопределившее следующий виток его биографии, связанный с открытым конфликтом с советской властью.
Глава «Суд по указу» восстанавливает подробный контекст дела Бродского и вносит существенные коррективы в, казалось бы, хорошо известные обстоятельства. Так, Морев напоминает, что общественная кампания в защиту осужденного (в том числе обращение Жан-Поля Сартра к председателю Президиума Верховного совета СССР А. И. Микояну от 17 августа 1965 года) изначально расценивалась ее участниками и наблюдателями как один из факторов, повлиявших на решение советских чиновников облегчить его участь. Однако, судя по уточненной хронологии, принципиальное намерение выпустить опального поэта сформировалось на самом верху еще в феврале того года, а шумиха на Западе только замедлила реальное освобождение Бродского. Попутно Морев рассматривает эдиционную историю документа, центрального для международной огласки суда над «тунеядцем», — запись Фриды Вигдоровой, и поднимает вопрос о жанровом статусе протокола. Традиционно вигдоровскую запись выступления сторон в зале заседаний определяли как «стенограмму»; между тем Вигдорова не знала стенографии, поэтому употребление самого термина в связи с ее фиксированием дела Бродского некорректно. Опираясь на квалифицированное мнение Лидии Чуковской, Морев называет запись происходившего на процессе «литературным произведением, построенным, однако, на строго документальной основе», и даже относит его к жанру драмы (действительно, бесстрашная журналистка и писательница Вигдорова имела драматургический опыт).
Из главы «Без утопий» мы узнаем, что Бродский не очень перерабатывал в качестве ссыльного. Из сохранившейся в архиве характеристики на рабочего совхоза «Даниловский» Архангельского треста «Скотооткорм» следует, что с марта по май 1965 года Бродский совершил 32 прогула «без уважительных причин»; это не помешало сокращению срока каторжника в момент, когда на то появилась политическая воля. По освобождении Бродский безуспешно предпринял ряд попыток встроиться в официальную литературную индустрию. Из заявлений поэта в издательства, редакционных отказов и мемуарных цитат Морев скрупулезно составляет пеструю мозаику, выставляющую неприглядное закулисье официозной печати. Чего стоит конспирологический перл поэта Ильи Авраменко, члена партии с 1940 года, редактора Ленинградского отделения издательства «Советский писатель», который рассматривал рукопись книги Бродского «Зимняя почта» в начале 1968 года. В связи с ранней попыткой поэта провести в печать переводы он вопрошал: «А не думали товарищи свидетели, защищавшие его [на суде], что <…> эти переводы — может быть, это шпионские шифры? Не думали ли вы об этом, товарищи? Иногда прибегают к шифровке в переводах!» При этом даже рутинное посещение Бродским редакций производило изрядное смятение. По воспоминанию поэта П. Вегина, однажды он оказался в тесноватой комнатке отдела поэзии журнала «Звезда», когда зазвонил телефон. Сотрудник редакции Николай Браун взял трубку: «Я вижу, что лицо его становится пунцовым, потом немедленно бледнеет, испарина покрывает лоб, и, положив трубку, он почти шепотом говорит мне: — Это Бродский… Он внизу и сейчас будет здесь… Что делать? — Николай Константинович [правильно — Леопольдович. — Ю. Л.], успокойтесь… — Да, но он принесет стихи… он только что вернулся из заключения… Через несколько коротких минут в дверь постучали, Браун дрожащим голосом произнес „да, пожалуйста“, и в комнату вошел рыжеватый, улыбающийся и очень симпатичный парнишка. Браун старался не смотреть на него <…>».
Не совпала эстетика Бродского и со вкусами наиболее либерального по тем временам редактора «Нового мира» А. Т. Твардовского. Когда летом 1968 года поэт предложил условно «оппозиционному» рупору два программных текста — «Остановка в пустыне» и «Прощайте, мадмуазель Вероника», — Твардовский лично наложил на возвращенную автору рукопись суровое вето: «Для „Н<ового> М<ира>„ решительно не подходит. А. Т.». Принципиальный «вкусовой» отказ Твардовского, заключает Морев, показал Бродскому окончательную бесперспективность дальнейших попыток влиться в чуждую ему систему печатной литературы в СССР. Тогда Бродский переключается на эмигрантские издательства и западную аудиторию, авторизуя публикацию переводов своих стихотворений на английский и другие европейские языки. Успеху этой стратегии в немалой степени способствовало расширение контактов Бродского с приезжавшими в Ленинград и Москву иностранцами — репортерами и молодыми славистами, многие из которых впоследствии становились его друзьями и амбассадорами в ином культурном социуме.
Одновременно происходило отчуждение Бродского не только от его противников, но и от той части соотечественников, которая, несмотря на отсутствие очевидных идеологических разногласий с бывшим ссыльным, воспринимала его как чужака. О трениях с Евтушенко и Вознесенским писалось довольно много, поэтому гораздо интереснее читать про эпизоды, до сих пор освещавшиеся в литературе о Бродском менее подробно. Морев приводит воспоминание кинорежиссера Леонида Менакера об инциденте, имевшем место в Ленинграде зимой 1971/1972 годов между Иосифом Бродским и киносценаристом Геннадием Шпаликовым. Оказавшись с ним в одной компании, культовый шестидесятник принялся провоцировать Бродского, который «слушал, смотрел на огонь. Шпаликов наливал рюмку за рюмкой, требовал, чтобы Иосиф опрокидывал наравне… Бродский пил мало — кажется, предпочитал вино». В какой-то момент Шпаликов принялся требовать, чтобы Бродский прочел свои стихи. Бродский с неохотой согласился, но настолько увлекся, что Шпаликов от магии его слов и голоса помрачнел еще сильнее. Вдруг Шпаликов схватил Бродского за руку, «на которой были электронные (тогда — редкость!), довольно простенькие часы. Бродский ими по-детски гордился, он любил всякие заграничные фирменные штучки. — Покажи! — потребовал Шпаликов. Иосиф снял часы. Гена, презрительно выпятив губу, разглядывал заморскую игрушку. — Водонепроницаемые? Иосиф подтвердил. — Проверим! — зло хохотнул Шпаликов, бросив часы в кувшин с водой. У Иосифа дернулась скула, но он спокойно вынул часы, обтер салфеткой, надел. Трещал в камине огонь, но стало неуютно, холодно». Комментируя эту достоевщину, Морев высказывает предположение, что Шпаликов трактовал поэтику Бродского, избегающего свойственных шестидесятникам прямого высказывания и гражданского темперамента, как свидетельство ухода от общественных проблем, «духовную эмиграцию».
Но не только импортные электронные часы Бродского как знак бытового благополучия становились катализатором раздражения — и не только у Шпаликова, но и других современников. Здесь угадывается та самая неброская вкусовая (или «стилистическая», в понимании Синявского-Терца) разница между предполагаемыми соратниками. Например, вызывающе «инаковым» современниками считывался весь дресс-код Бродского. В. Марамзин вспоминал, как однажды он пришел с Бродским в Дом писателей за какой-то административной надобностью: «На Иосифе была длинная тонкая телячья дубленка глубокого коричневого цвета с зеленоватым оттенком, присланная из Франции, однотонный с пестринкой кашемировый свитер, светлые джинсы и замшевые туфли. Он бы, возможно, оделся и проще, особенно для похода в администрацию [Союза писателей], да ничего другого у него просто не было». Аналогичные штрихи Морев находит в мемуарах иностранки Эллендеи Проффер (между прочим, не самой последней модницы): «мы входим в комнатку Бродского, хозяин ее похож на американского выпускника. На нем голубая рубашка и вельветовые брюки. Очень западного вида брюки — прямо вызов режиму»; и у поэта-отказника Давида Шраера-Петрова: «Я встретил его [зимой 1972 года] на Тверском бульваре <…> Он был хорошо одет, в дубленке, такой уверенный… И я подумал, что у него все в порядке».
На фоне сгущающегося брежневского застоя фактически непечатаемый в СССР Бродский ищет пути к легальному выезду за границу. Биограф Бродского напоминает, что в кругу советской «творческой интеллигенции» с начала 1960-х годов практиковались «международные» браки, позволявшие пересечение железного занавеса без потери советского паспорта и с возможностью при желании возвращения домой. Впрочем, ни один из вариантов настоящего или фиктивного брака Бродского с иностранками, с которыми он состоял в романтических отношениях, не стал тем локомотивом (точнее, самолетом), который в итоге вывез поэта за рубеж. Здесь в донжуанском сюжете вновь появляется всесильный рычаг КГБ, этого Deus ex machina Sovietica, в недрах которого в 1972 году созревает идея выдавить строптивого литератора из Советского Союза по израильской визе.
Изучив различные описания разговора, который состоялся у Бродского в ленинградском ОВИРе незадолго до эмиграции с представителем комитета госбезопасности, Морев приходит к удивительному выводу о том, что в первоначальной версии полностью отсутствует тема угроз и давления. Бродскому настоятельно предложили подать бумаги на выезд в течение двух дней с тем, чтобы быстро получить ответ («Впоследствии у нас наступит горячий период. То есть отпуска и проч.»). В разговоре с Соломоном Волковым, датируемом интервьюером 1981–1983 годами, в пассаже из текста 1972 года ретушируется мотивировка, и полковник уже не говорит о поре отпусков, но выступает со скрытой угрозой, якобы в случае если Бродский откажется заполнять анкеты: «Тогда… у вас в чрезвычайно обозримом будущем наступит весьма горячее время». С этой смененной интонацией Бродский впоследствии будет пересказывать данный эпизод наподобие ахматовских «пластинок» вплоть до 1990-х годов в соответствии с логикой биографического мифа.
У Льва Лосева, как первого летописца и бытописателя жизни и творчества Бродского, были очевидные преимущества перед будущими хроникерами в избранном жанре. Состояли они в том, что, во-первых, он был близко знаком с объектом своего повествования, а во-вторых, был непосредственным участником эпохи, о которой писал. У Глеба Морева другие козыри: эмоциональная отстраненность от сильной фигуры Бродского, историческая дистанция, и множество обнародованных за истекшие три десятилетия после смерти поэта свидетельств.