И он срывает все цветы родства
Отрывок из книги Глеба Морева «Иосиф Бродский: годы в СССР. Литературная биография»
Книга Глеба Морева о советской части литературной биографии Иосифа Бродского успела нашуметь еще до выхода, хотя ничего сенсационного и потрясающего воображения автор читателям, разумеется, не сулил. Теперь это исследование наконец вышло, и мы предлагаем вам прочитать его фрагмент.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Глеб Морев. Иосиф Бродский: годы в СССР. Литературная биография. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание
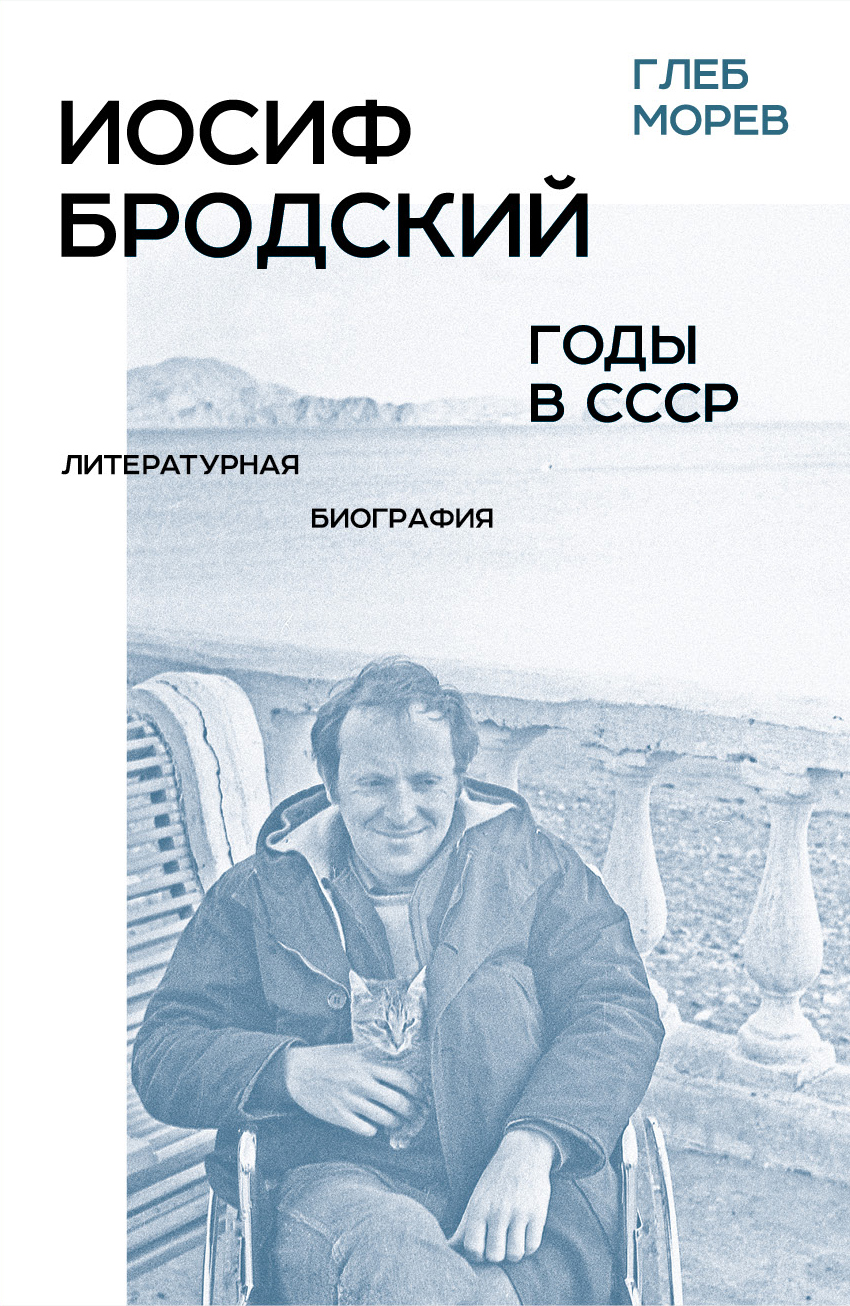
4 сентября 1965 года протест первого заместителя генерального прокурора СССР М. П. Малярова по делу Бродского, внесенный в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РСФСР 15 февраля 1965 года, был удовлетворен. Определением коллегии срок высылки Бродскому был сокращен с пяти лет до одного года и пяти месяцев — то есть до фактически отбытого им срока. Первоначально при внесении Маляровым протеста в феврале предполагалось, что срок высылки Бродского будет сокращен до проведенного им к тому времени в ссылке одного года. Пять месяцев, прибавившиеся в итоге, занял бюрократический процесс прохождения дела в Верховном суде РСФСР.
Дело задвигалось 31 августа: из генеральной прокуратуры от Малярова позвонили в прокуратуру Коношскую и затребовали характеристику на Бродского. В тот же день она была выслана в Москву.
ХАРАКТЕРИСТИКА
На рабочего совхоза «Даниловский» Архангельского треста «Скотооткорм» Бродского Иосифа Александровича с 1940 года рождения <sic!>, работающего в совхозе «Даниловский» в отделении № 3 в деревне Норенская с 10.IV.1964 года на разных работах в полеводстве.
В 1964-65 году к работе относился посредственно, имеет место прогулов <sic!> без уважительных причин, так например с марта по май месяц 1965 года имеет 32 прогула. Общественной работы не выполняет. Нарушений общественного порядка за весь период работы не наблюдалось. Директор совхоза — Русаков.
О решении Верховного суда, принятом 4 сентября, Бродский узнал в Ленинграде неделю спустя — как раз в эти дни ему предоставили очередной отпуск для поездки домой. Ненадолго вернувшись в Норинскую, 23 сентября Бродский получил документы об освобождении и вылетел из Архангельска в Москву.
Воспоминания Людмилы Сергеевой ярко характеризуют новое положение Бродского в литературном мире после ссылки:
В конце сентября 1965 года Иосиф Бродский, минуя Ленинград, прямо из ссылки прилетел в Москву, к нам. Об этом мы заранее условились. Иосиф должен был встретиться в Москве с Мариной Басмановой и привезти ее к нам. Им обоим, по-моему, хотелось и родной город, и все, что было в нем тяжелого и нерешенного, оставить позади и побыть вдвоем в новом дружественном месте. Но с этой встречей не все вышло гладко. Марина удивилась, что Иосиф ее не встретил, и поехала по нашему адресу самостоятельно. Узнав, что Иосифа у нас нет, Марина порывалась уйти. Но мы ее не пустили, разговорили, поужинали вместе. Ближе к ночи примчался на такси Иосиф, весьма пьяненький. Оказывается, он встретил на улице Васю Аксенова, который потащил Иосифа к Евтушенко, где они и запировали. А поскольку Иосиф только что из ссылки прилетел усталый, голодный, он быстро захмелел и потерял счет времени.
К 1965 году Василий Аксенов и Евгений Евтушенко — лидеры молодой советской литературы, всесоюзные знаменитости, широко публикующиеся и обсуждаемые критикой литераторы, преуспевающие — в том числе в материальном плане — члены СП СССР. С официальной точки зрения их литературный и социальный статусы (и до ссылки Бродского, и после нее) несравнимы со статусом их нового приятеля — осужденного по указу от 4 мая 1961 года тунеядца (литератора, не признанного государством в этом качестве), поэта, опубликовавшего к осени 1965 года два стихотворения в коношской районной газете, на момент освобождения — безработного без постоянного источника заработка.
Однако в реальности официальной советской табели о рангах противостоит другая.
Если прибегать к метафоре, связанной с (символическим) капиталом, то речь здесь идет о двух его типах: внутреннем, «рублевом» капитале, не имеющем конвертации вне пределов СССР, и об интернациональном «валютном» капитале. И для Евтушенко, и для Аксенова, бывавших за границей и хорошо ориентировавшихся в международном культурном контексте, твердая, «конвертируемая» валюта международной известности, как видим, была гораздо более ценной.
11 сентября 1965 года, в тот самый день, когда Бродский в Ленинграде узнал о своем освобождении, в журнале The New Yorker — одном из ведущих западных интеллектуальных медиа — вышел очерк Ральфа Блюма о советской литературной жизни «Freeze and Thaw: The Artist in Soviet Russia», ставший центральным материалом номера. Ровно половина (традиционно для «Нью-Йоркера» объемного) текста Блюма была посвящена подробному изложению дела Бродского и воспоминаниям автора о его общении с поэтом в Ленинграде в 1961–1963 годах, цитированию суждений Бродского об американской и советской литературе (в частности, о Евтушенко), описанию чтения Бродским «Холмов» в «Кафе поэтов» на Полтавской улице и т. д. Понятно, что в этой (по мере возможности отслеживаемой Евтушенко и Аксеновым) медиареальности Бродский — уже не безвестный (в масштабах СССР, не говоря о загранице) и неимущий литератор-любитель, а всемирно знаменитая жертва неправедного суда, автор вышедшей в Америке книги (публикующийся также и в переводах), представляющий для зарубежной критики и медиа молодую литературу СССР наряду с теми же Евтушенко, Аксеновым и еще несколькими знаковыми фигурами оттепели — Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной, Робертом Рождественским (большинство из них упоминались в той же статье «Нью-Йоркера»). Фактическое уравнивание их (официально несопоставимых) статусов происходит не только в бытовом пространстве совместного дружеского времяпрепровождения, но и в публичном советском литературном поле — например, на сцене Коммунистической аудитории МГУ в июне 1966 года на вечере памяти поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, где Бродский читает вместе с Юрием Левитанским, Беллой Ахмадулиной, Булатом Окуджавой и Евгением Евтушенко.
Контраст между известностью Бродского в интеллигентских кругах и отсутствием у него какого-либо официального статуса и, соответственно, кредита доверия у руководителей советских (научных и творческих) институций, где ему случалось выступать, зафиксирован мемуаристом; речь идет о выступлении Бродского весной 1966 года в Фундаментальной библиотеке общественных наук (ФБОН) в Москве:
Особенно запомнился вечер Иосифа Бродского, приехавшего в Москву после архангельской ссылки. В Белом зале собралось «пол-Москвы». На подобного рода мероприятиях библиотечное начальство всегда присутствовало, занимая первый ряд. И вот когда Бродский в свойственной ему манере чтения возопил: «Мимо ристалищ и кладбищ...», руководство наше встревожилось, стало нервно переглядываться и перешептываться: «Кто такой? Кто его пригласил?» Тревогу вызывало еще и то, что Белый зал, все проходы и подступы к нему были забиты до отказа, причем в значительной степени людьми, не имеющими к библиотеке никакого отношения. Но потом тревога улеглась, и все обошлось.
Создаваемое радикальным несовпадением статусов Бродского неминуемое напряжение между этими социокультурными пространствами — приватным/кружковым (где рейтинг Бродского необычайно высок) и более широким публичным/официальным (где он — в отсутствие публикаций на родине — стремится к нулю) — становится основой для специфической литературно-биографической коллизии, которой предстоит сыграть в жизни Бродского в СССР не последнюю роль. Для самого поэта она восходит к периоду до суда и ссылки, когда с подачи Ахматовой берет начало упоминавшаяся нами ранее тема его «соперничества» с молодыми звездами советской поэзии — прежде всего, с Евтушенко и Вознесенским. И если до 1965 года, когда полное несовпадение жизненных траекторий и общественного положения «московских знаменитостей» и Бродского исключало их равноправное взаимодействие в литературном (и не только) быту, это соперничество носило скорее декларативный (со стороны Ахматовой) и умозрительный (для Бродского) характер, то после суда, обретения Бродским всемирной известности и первых западных публикаций оно стало все больше приобретать характер реального литературно-эстетического (а в советских условиях неизбежно и политического) противостояния.
Первоначальной биографической задачей, вставшей после ссылки перед Бродским, была легитимация советской литературной системой его фактического (то есть признаваемого на кружковом и личностном уровнях) равенства с лидерами молодой советской поэзии через формальное литературное признание — иначе говоря, социализацию в качества писателя. Необходимым и решающим шагом на этом пути был выпуск Бродским книги стихотворений в СССР.
2
Затянувшийся по сугубо бюрократическим причинам процесс освобождения создал у Бродского ложное впечатление безнадежности перспектив пересмотра его приговора — за три месяца до решения Верховного суда РСФСР он рассчитывает в лучшем случае на выход «по половинке» (по истечению половины срока) — через полтора года. Тем острее — после неожиданного обретения свободы — требовали решения вставшие перед поэтом вопросы будущего жизнеустройства.
Андрей Сергеев вспоминает о совместной прогулке с Бродским по Москве вскоре после возвращения того из ссылки:
На обратном пути из Донского [монастыря] долго шли пешком, в приподнятом настроении, рассуждали, строили планы — насчет нас самих, насчет того, что будет. Как удастся прожить, просуществовать в условиях максимальной социальной и материальной несвободы, что удастся написать, перевести, сделать — без утопий.
Начало этому «реалистическому» подходу к собственной литературной биографии, имеющему в виду не утопические, а реальные возможности социализации, предлагаемые системой, было положено еще в Норинской — об этом свидетельствуют и письмо в «Известия» о языке, и прямо заявленное нежелание печататься на Западе, и инициатива с публикацией стихов в коношской районной газете «Призыв», и — last but not least — автоцензурная редактура собственных текстов, которые отныне начинают рассматриваться с точки зрения их возможной официальной публикации в СССР и/или безопасности автора.
Поэтической манифестацией этой идеологии стало написанное Бродским в последние дни ссылки программное стихотворение «Одной поэтессе» («Я заражен нормальным классицизмом...»). «Нормальный классицизм» имплицирует здесь оппозицию «романтическому» бунту против мироустройства. Для истинного поэта Бродский прокламирует некий «третий путь», противопоставленный как скрытой оппозиционности, так и восторженному сервилизму:
Один певец подготовляет рапорт,
другой рождает приглушенный ропот,
а третий знает, что он сам — лишь рупор,
и он срывает все цветы родства.
Образ «цветов родства» в этом тексте прямо связан с недавней принципиальной декларацией Бродского: «...мой народ! Да, я счастлив уж тем, что твой сын!» («Народ», 1964). По мысли Бродского, лишь будучи «рупором» языка (= «народа»), поэт, как выразился в известном письме Пушкину Чаадаев, «угадывает свое призвание», становясь «национальным» — то есть обретая подлинные масштаб и славу («все цветы»). В целом, начиная со стихотворения «Народ», представление о «национальном поэте» как о персонифицирующем всю мощь родного языка («великой речи») служит определяющим для самоидентификации Бродского. В русской культурной традиции это представление задано знаменитой статьей Гоголя «Несколько слов о Пушкине» (1834) и органично вписывается в усвоенные Бродским со времени ссылки пушкинские автопроекции. Немаловажно при этом, что, будучи «наднациональной» («универсалистской»), пушкинская модель «национального поэта» противостоит «романтической концепции национального поэта как политической фигуры», связанной с духом революционности и бунтарства.
При этом в реализации своей литературной стратегии Бродский, разумеется, не готов и не собирается послушно следовать предписаниям властей: речь идет о создании им — с учетом советских реалий — органичных (для него) новых условий для осуществления в качестве литератора, об имеющем в виду биографическую агентность Поэта социальном творчестве, об идее которого мы говорили ранее. Воспринимая свои отношения с советской системой как (в его позднейшем определении) «поединок», Бродский считает возможным и даже необходимым прибегать к различным тактикам. Еще в сентябре 1964 года в письме Вигдоровой он формулирует:
Вы пишете, что меня «должны освободить». Нет, Фрида Абрамовна, не должны. И не только — в силу политической ситуации, а потому, что у этой страны нет долга передо мной: я чувствую очень сильно, насколько эта земля не связана с человеком. Поэтому я все буду сам. Нужно ее пересилить, вспахать, что ли, перехитрить.
Попыткам «пересилить», а затем «перехитрить» советское мироустройство будет посвящено биографическое творчество Бродского с осени 1965 до весны 1972 года.