Престижный рогатый урожай: книги недели
Что спрашивать в книжных
Рита Томас
Песни Русского Севера, классика бразильского модернизма, этюд по «истории снизу», жизнь музеев РСФСР в межвоенное время, а также заповеди первоокрывателя человеческих отношений на заводе. Как заведено по пятницам, редакторы «Горького» рассказывают о самых любопытных новинках недели.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Эуклидес да Кунья. Сертаны. Война в Канудусе. М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. Перевод с португальского. Содержание
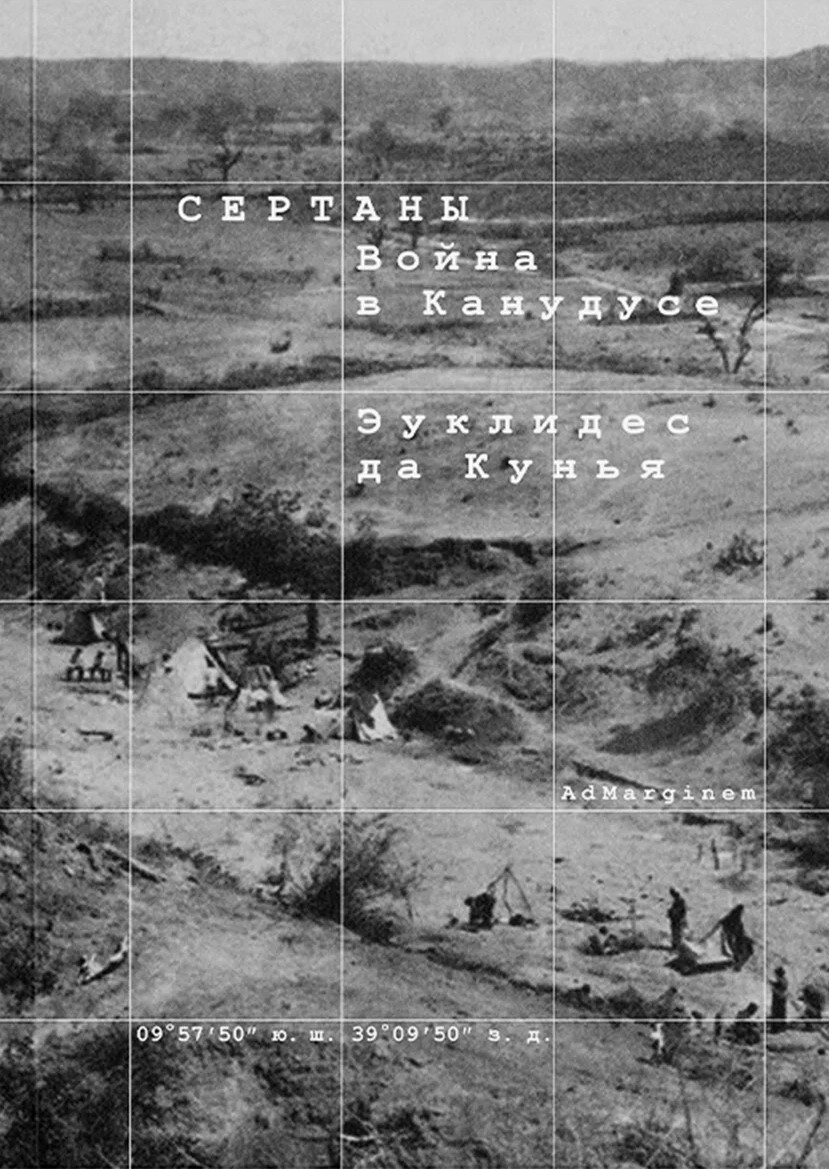
Эуклидес да Кунья — безусловный классик бразильского модернизма, занимающий в национальной литературе примерно то же место, что у нас Михаил Пришвин или Лев Толстой, то есть на вершине вершин.
«Сертаны» (1902) — его дебютная книга, она же считается самой главной в чрезвычайно короткой творческой жизни да Куньи, прерванной злодейским выстрелом (суд присяжных, впрочем, оправдал убийцу писателя, признав его действия самозащитой). Про такие произведения принято говорить: с трудом поддается жанровому определению. Magnum opus да Куньи — редчайший случай, когда этот шаблонный оборот действительно уместен, поскольку перед нами и роман, и этногеографический очерк, и республиканский памфлет, и путевой дневник, и много еще чего.
Загадочные для русского слуха сертаны, вынесенные в заглавие, — это чрезвычайно засушливые, бесплодные плоскогорья Бразилии. Словом, пустоши, суровые земли суровых людей. В сертанах штата Байя в 1896 году разгорелся конфликт между бедняками, обитавшими в вольной коммуне Канудус, и правительственными войсками, жестоко подавившими восстание. Да Кунья стал очевидцем этого кровопролития: войну в Канудусе он освещал в качестве корреспондента. В итоге у него получился не журналистский репортаж, а увесистый том сложной и возвышенной прозы.
«Шумный поток радостных возгласов докатился до долины, в которой стоял полевой госпиталь. Больные и умирающие перестали стонать — стоны превратились в виваты...
Жесткие порывы северо-восточного ветра развевали знамена — и доносили до поселения перемешанную металлическую дробь военных маршей и тысяч триумфальных возгласов...
Опускалась ночь. Из Канудуса поднимался, долгим отзвуком прокатываясь по бесприютным холмам и разносясь среди покоя скалистой земли, пока не превратится в неразличимое эхо, что отражается в далеких горах, звон „Аве Марии“...»
К слову, этой книгой вдохновлялся перуанский нобелиат Марио Варгас Льоса, когда писал «Войну конца света». В нем бразилец даже появляется в качестве одного из ключевых персонажей — безымянного репортера.
Эдвард Палмер Томпсон. Виги и охотники: происхождение Черного акта 1723 года. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Перевод с английского Нины Лужецкой. Содержание
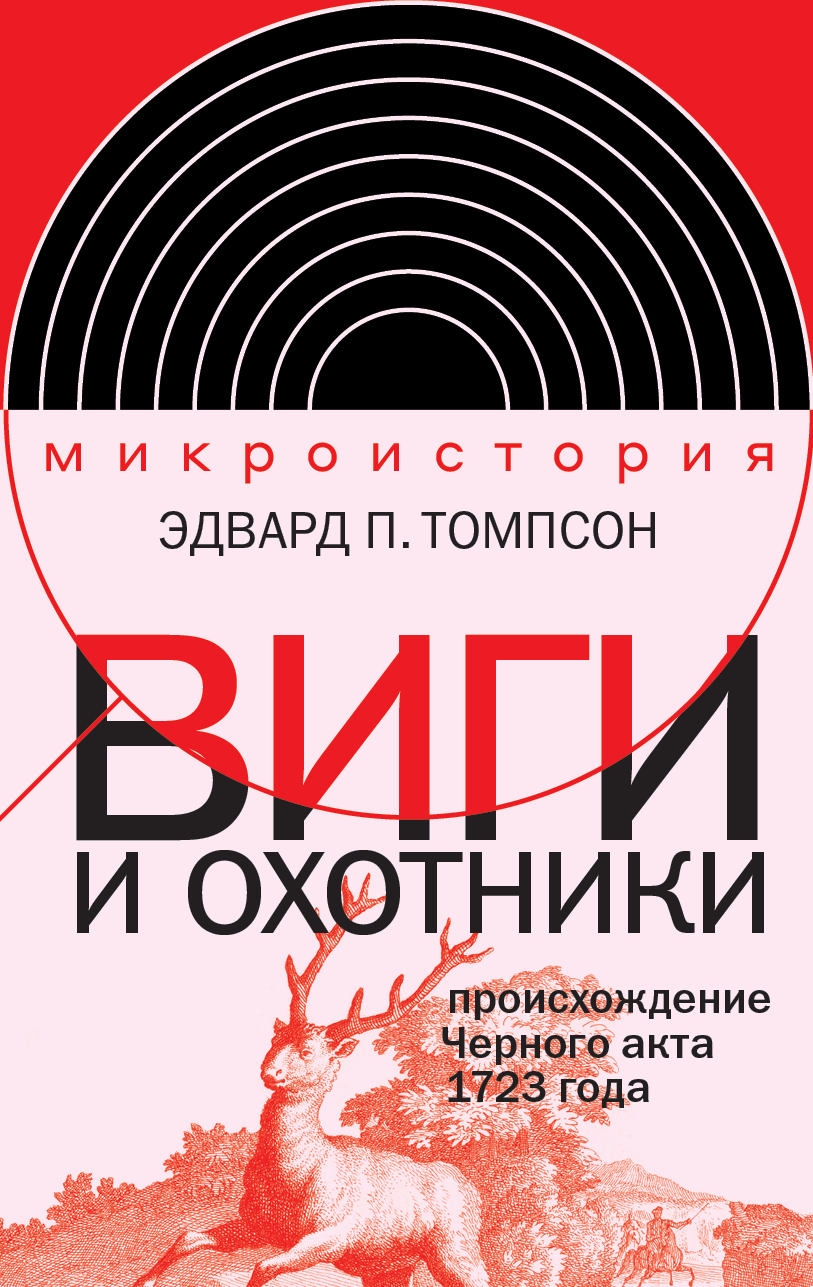
В середине 1960-х Эдвард Палмер Томпсон сформулировал основы того, что он назвал «историей снизу». Британский историк указал: когда его коллеги описывают тот или иной срез общества, они всегда, сами того не ведая, воспроизводят позицию власти. Это выражается, например, в источниках, считающихся авторитетными: официальные газеты, судебные документы, статистические данные — все они пишутся правящим классом в интересах правящего класса.
Томпсон предлагает полностью противоположный метод. Для написания «Вигов и охотников» (1975) он применил экспериментальный и крайне радикальный для своего времени подход. Прежде всего он обратился к историческому факту, о котором имел лишь общие представления, — принятию Черного акта 1723 года, вводившего в Англии смертную казнь за охоту в частных владениях. Вместо того чтобы изучить труды предшественников по теме, он сперва исследовал частную историю жизни английских охотников начала XVIII века, затем поднялся по иерархической лестнице на ступень вверх — к мелким носителям власти, следивших за угодьями, и только потом — к носителям высшей власти: королю и правительству.
Этот буквально революционный труд позволил ему обрести тот самый «взгляд снизу» и вложить один из первых кирпичей в фундамент того, что теперь называют микроисторией. «Виги и охотники» — безусловная классика европейской исторической мысли, но лишь теперь эта книга стала доступна на русском языке.
«Владельцу парка, выращивающему свой престижный рогатый урожай, конечно, хотелось приравнять кражу оленей к краже лошадей или овец, чтобы ее рассматривали, наравне с кражей имущества, как тяжкое преступление. Но все сельские жители ясно видели здесь различие. Добыча дичи у них не считалась уголовно наказуемым деянием, и хотя опыт учил их, что браконьерство сопряжено с риском, тем не менее их возмущало предположение о том, что такое правонарушение может заслуживать смерти. О хэмпширских осужденных говорили, что они у себя в голове „неспособны примирить такое грандиозное наказание, как смерть, с ничтожностью преступления, состоявшего всего-навсего в том, что [человек] себе позволил добыть несколько оленей“».
Песни и певческие практики севернорусских деревень: XX — первая четверть XXI века: в 2 т. СПб.: Пропповский центр, 2025. Сост., подгот. текстов, вступ. ст. А. С. Семеновой, под общ. ред. С. Б. Адоньевой. Фрагмент
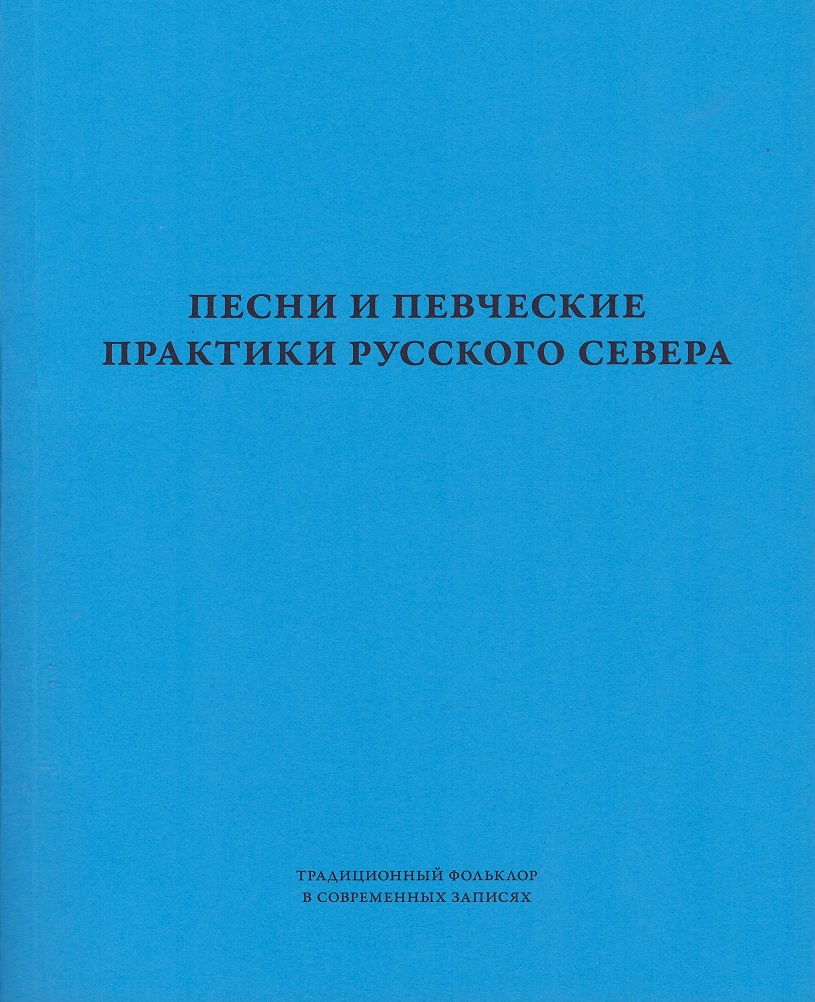
Мезенский песенный фольклор, собрание которого представлено в этом обширном двухтомном издании, по мнению его собирательницы и исследовательницы Н. П. Колпаковой, «принадлежит к тому известному классическому репертуару северной песни, характерному для северо-восточных районов Архангельской области (бассейнов рек Пинеги, Мезени, Печоры и их притоков) и является, по-видимому, наиболее глубоким из дошедших до нас пластов русской народной традиционной песенности». Сохранился он не только благодаря певческим практикам, характерным для домашнего круга (застольные песни, свадебные песни и т. п.), но и благодаря работе фольклорных хоров, существующих при местных клубах. Ожидать от такого репертуара сугубой архаичности и когерентности по понятным причинам не следует: воды утекло много, поэтому второй том состоит из романсов, советских и постсоветских песен, исполняемых наряду со старинными. Колоссальность объема издания объясняется не только песенным изобилием, но и главным образом тем, что собиратели тщательнейшим образом фиксировали контекст: они записывали, кто, когда и при каких обстоятельствах исполнил ту или иную песню, а также расспрашивали исполнителей о том, откуда они ее знают и как могут объяснить содержание исполненного. Биографические сведения об исполнителях и их комментарии ничуть не менее значимы, чем сами песенные тексты. Исследователи исходят из того, что песни нужно изучать не как «народное творчество», отчуждая его тем самым от тех, для кого исполнительство является важной социальной и культурной практикой, но «возвращая» фольклор тем, кто им пользуется.
Я по садику погуливала,
Гуся серого поганивала.
Погонила гуся серого домой,
А за мною — молодчик молодой.
Он и стал со мной заигрывати,
На резвы ноги поступывати,
За бело лицо похватывати.
«Не бери, милой, за белое лицо:
Мое личико разгарчивое,
Моя маменька догадливая.
Приду домой, догадается,
От чего же разгорелося лицо, —
Не со пива, со зеленого вина,
Не со сладенькой водочки».
Сладка водочка анисовая,
Тесова кровать расписанная,
Расписная, разрисованная,
Занавесочки узорчатые,
Красны девицы приборчатые.
Элтон Мэйо. Социальные проблемы индустриальной цивилизации. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2025. Перевод с англ. Ю. Каптуревского. Содержание
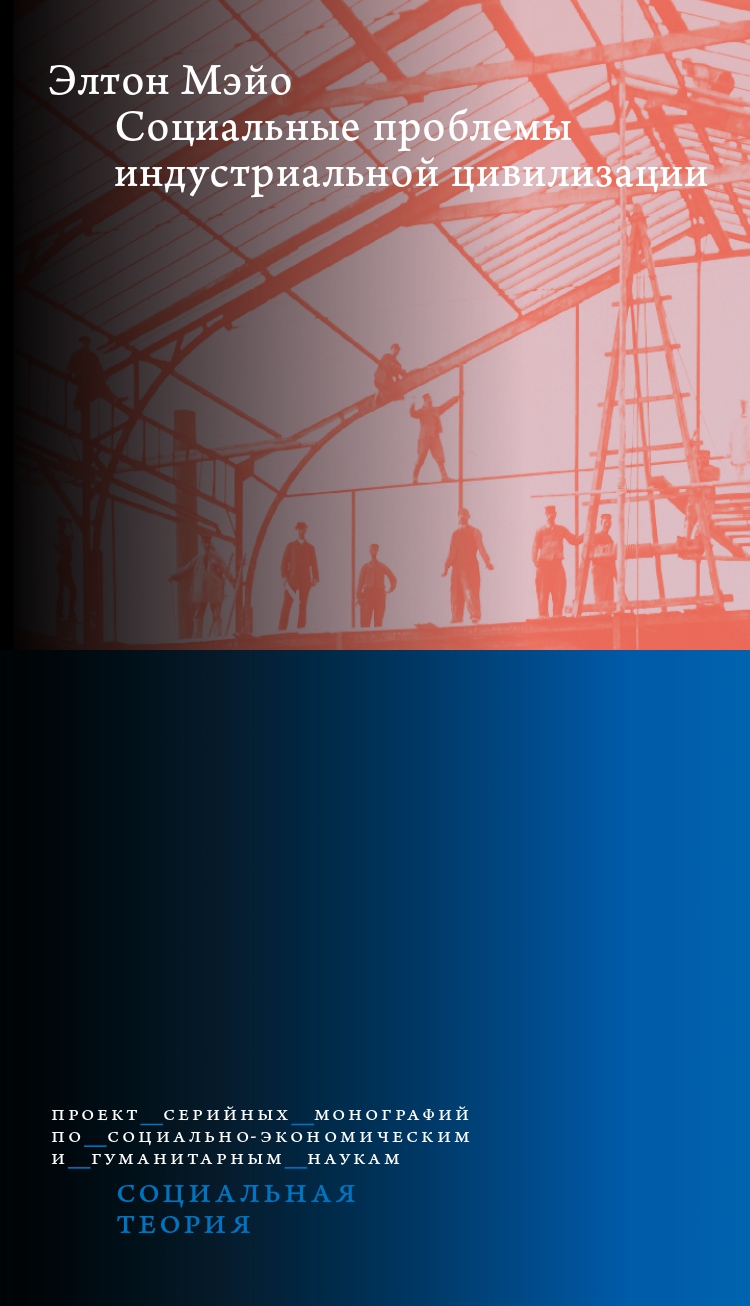
Элтон Мэйо (1880–1949) — австралийско-американский исследователь труда, профессор кафедры индустриальных исследований Гарвардской школы бизнеса и основоположник доктрины «человеческих отношений», которая ставит во главу углу не работающего индивида, а социальные взаимодействия внутри рабочего коллектива.
«Социальные проблемы...» — классический труд, впервые он был опубликован аж в 1949 году. Книга вызвана к жизни опытом двух войн и бурным послевоенным ростом производств, который обнажил парадокс: технические возможности цивилизации стремительно растут, а способность к общественной кооперации — нет. В первой части книги Мэйо ставит диагноз модерну: распад общинных связей произвел на свет «разупорядоченные пылинки индивидов», чьи клубы бессмысленно колышет «неэффективная государственная власть». Индустриалист полагает, что разнообразные формы демократии недостаточны для плодотворной общественной жизни, «на костях этого „скелета“ должны нарасти „мышцы“ социальных навыков и понимания». Во второй части даются конкретные рекомендации по наращиванию, для этого необходимо перенести на социальную ткань медицинский подход — практики длительного наблюдения, терапевтического и диагностического интервьюирования, изучение анамнеза, т. е. истории конкретного человека и группы. Все это воплощалось в жизни в рамках знаменитого Хоторнского эксперимента на фабрике «Вестерн Электрик» в штате Иллинойс.
Пытаясь разобраться в причинах сокращения производительности, в 1929–1931 годах исследователи собрали около 10 тысяч интервью, проанализировали почти 100 тысяч сообщений по 80 темам. Рабочие встретили исследовательскую инициативу неожиданно тепло: «это лучшее из того, что когда-либо делала компания» — впервые их целенаправленно слушали и помогали им «прояснять» собственные чувства. Эти разговоры дали основание Мэйо говорить о важности «эмоциональной разрядки» и о том, что интервью может служить средством не только сбора данных, но и укрепления солидарности и, как следствие, повышения производительности.
Сегодня, на фоне крещендо алгоритмического управления, пролиферации платформенных экономик и гидридных режимов занятости, эта книга читается почти болезненно — как свидетельство неисправимого поворота не туда. Слушать, кооперироваться, выстраивать контуры совместной работы — без этого, очевидно, никуда, но в никуда мы на всех порах и несемся.
«Нам повсюду твердят, что главная политическая проблема современности — это противостояние „двух миров“. И тут же разговор переходит на Америку и Россию, как будто об этих двух мирах и идет речь, и их соперничества никак нельзя избежать. Очевидно, что обеспечение единства и установление кооперации двух гигантов современности представляет собой труднейшую задачу, но любое такого рода поспешное закрытие темы до крайности осложняет выявление источника трудностей и, таким образом, вносит дополнительный элемент непонимания. Два мира, конечно же, существуют, равно как и конфликт социальных концепций и социальных методов; но мы не можем идентифицировать их географически. В какой-то мере западная цивилизация противостоит азиатской, в то время как беспокойная и неуверенная Россия балансирует между ними. Но в каком-то смысле речь идет о свободе против силы, и в этом противостоянии каждая из сторон добивается успехов и терпит неудачи. Однако с географической точки зрения эти два мира проникают друг в друга. <...> Даже Россия не может претендовать на беззаветную преданность каждого русского ее нынешнему политическому режиму. Повсюду можно найти свидетельства того, что по мере развития общего образования усиливается и стремление людей к личной свободе от диктаторских запретов».
Марина Силина. История искусства в экспозиции. Музеи РСФСР в 1920–1930-е годы. М.: ЦЭМ, V—A—C Press, 2025. Содержание
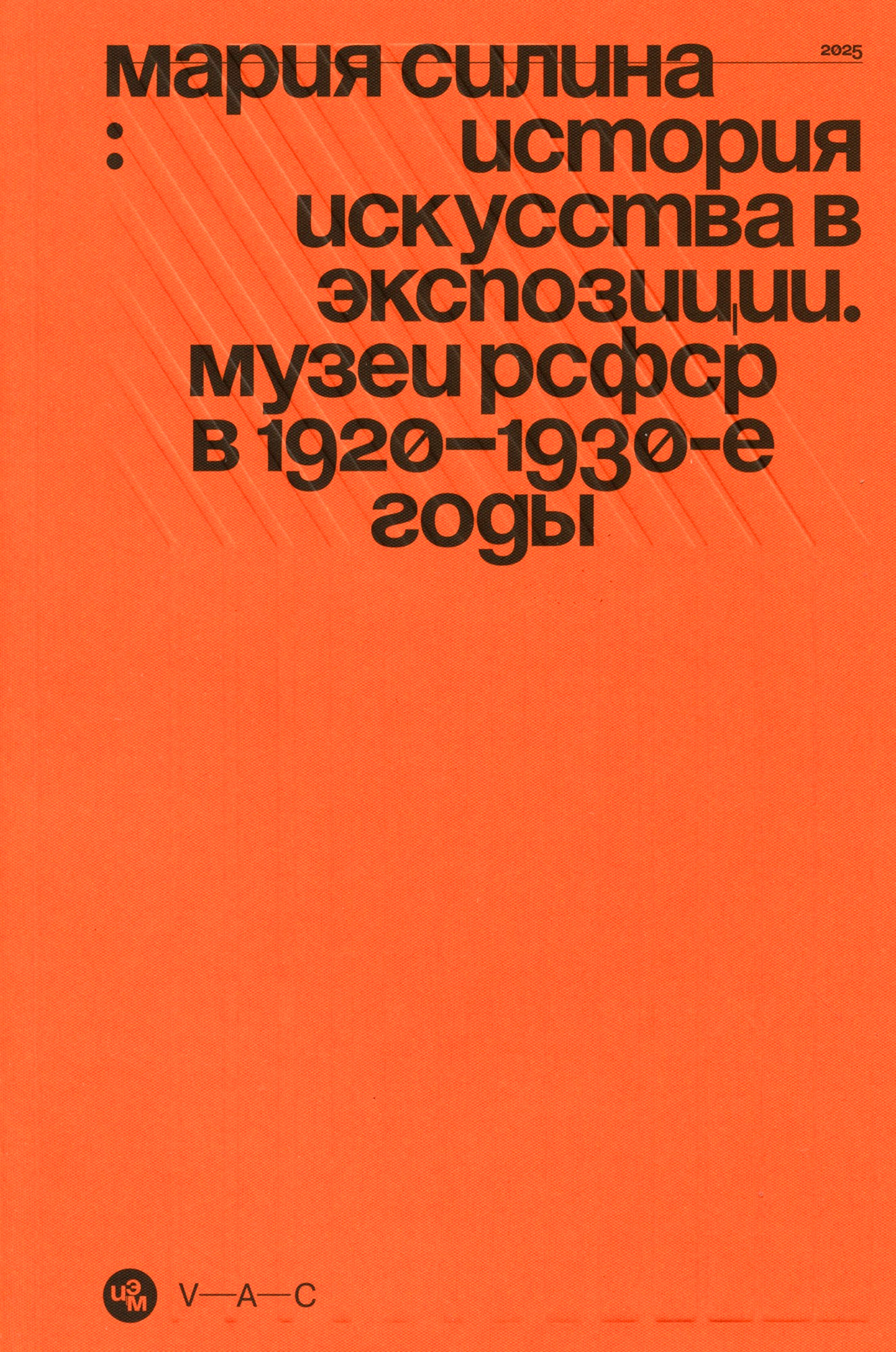
Эта книга — масштабная (под 700 страниц) реконструкция того, как создатели музеев РСФСР мыслили и показывали историю искусства в межвоенный период и как их решения вели диалог с мировым контекстом — все это звучит по-особенному сейчас, когда отечественные экспозиции тщательно сепарируются от западного контекста. Автор концентрирует на институциях именно РСФСР, и это задает двойную оптику: с одной стороны — речь об отдельной республике со своими музейными подходами, с другой — о центре союзной власти, который диктовал свои стандарты другим субъектам, из чего следует понятный ряд колониальных вопросов.
Специалисты и интересующиеся мимо труда Силиной вряд ли пройдут, и правильно сделают. Среди прочего историк демонстрирует, как советские практики соотносились с глобальными экспериментами — от американской музейной педагогики до немецкой музеологии Вильгельма фон Боде; проблематизирует противопоставление «авангард/тоталитаризм» и интереснейше рассказывает о т. н. марксистских опытных экспозициях. Завершает книгу разбор истории Третьяковской галерее в 1930-е, из которой мы узнаем, как через выставки-блокбастеры, комиссионные закупки и административную инфраструктуру формировался канон соцреализма.
«Однако именно в 1936 году в галерее открылась первая „выставка-блокбастер“ — и это была выставка Ильи Репина. Произошел важный сдвиг в выставочной концепции. В культурную революцию и до 1936 года выставки любого художника лишь сопровождали политическую повестку, а сюжет картины трактовался в интересах современных политических кампаний, ведущих классовую борьбу. В 1936 году сами картины Репина, их живописная реалистическая манера и мастерский психологизм стали политическим высказыванием о величии национальной культуры СССР. Искусство, наконец, обрело свою автономию в социалистической культуре».