Пингвин, ведущий народ
О книге Кристофера Тоцци про историю свободного ПО
В начале 1980-х хакер Ричард Столлман устал от стремительной коммерциализации программного обеспечения, бросил работу в престижнейшем институте и посвятил всего себя созданию полностью свободного софта. Проект одного человека довольно быстро превратился в международное сообщество GNU, которое произвело революцию в сфере авторского права и разработки ПО. Почему это должно быть интересно даже тем, кто далек от хакерской субкультуры, узнал Эдуард Лукоянов, прочитав книгу историка Кристофера Тоцци «Ради удовольствия и прибыли».
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Кристофер Тоцци. Ради удовольствия и прибыли. История революции свободного и открытого программного обеспечения. М.: Издательство Института Гайдара, 2025. Перевод с английского под научной редакцией Артема Смирнова. Содержание, фрагмент
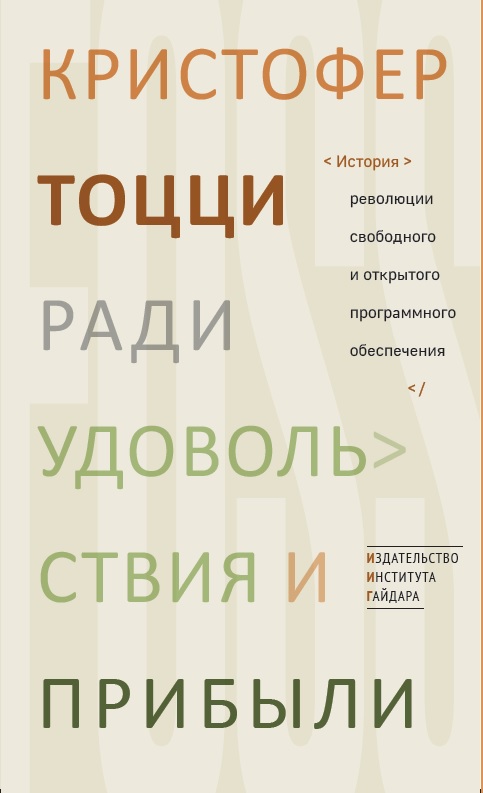
В общественной репрезентации хакерам не повезло даже больше, чем луддитам — другому прогрессивному движению, которое государство при поддержке медиа выставило в самом нелицеприятном свете как сборище особо опасных преступников, вредителей. Сперва хакерам создали карикатурно-романтический образ молодых людей в кожаных плащах, играючи взламывающих системы безопасности античеловеческих корпораций зла. Совсем скоро, с повсеместным распространением компьютеров и соответствующих вирусов, киберпанковские Робин Гуды превратились в заурядных гопников, бьющих стекла в переулке и показывающих детям непристойные картинки. Теперь же хакеры — это либо просто организованные преступники, либо организованные преступники, инкорпорированные в государство, чтобы вмешиваться в выборы по всему миру, красть с криптовалютных бирж годовые бюджеты небольших республик, останавливать работу аэропортов. В общем, страшные люди, да еще и всемогущие.
Само собой, все эти образы, позитивные и негативные, порождены массовыми неврозами, сменой заинтересованно-восторженного отношения к технологиям столь же иррациональным страхом перед ними. Книга историка Кристофера Тоцци «Ради удовольствия и прибыли» (For Fun and Profit) обращается к первоистокам реального хакерского сообщества, достижениями которого и сейчас ежедневно пользуются миллионы людей. Сформировалось оно прежде всего в академической среде — в учебных и исследовательских заведениях, например в Лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института. Именно там несколько лет работал Ричард Мэттью Столлман (RSM), «последний настоящий хакер», отец копилефта, разработчик операционной системы GNU, положившей начало повсеместному распространению свободного ПО. Но, опять же, RSM никогда не был одиночкой — благодаря своим талантам и известной доли фанатизма он довел до предела наработки и ценности коллег, выступавших за полностью свободный обмен софтом. Эти ценности Стивен Леви, автор книги «Хакеры» (1984), определяет так:
доступ к компьютерам должен быть полным и безграничным
вся информация должна быть свободной
недоверие к власти — продвижение децентрализации
хакеров нужно оценивать по фактическим навыкам, а не по фальшивым критериям, таким как образование, возраст, раса или положение в обществе
с помощью компьютера можно создавать искусство
компьютеры могут изменить жизнь к лучшему
В свою очередь, программист Эрик Стивен Реймонд предлагает дополнять этот перечень еще пятью положениями:
мир полон увлекательных проблем, ожидающих решения
ни одна проблема не должна решаться дважды
скука и рутина — зло
свобода — благо
отношение к делу не заменяет компетентность
И наконец, вот «золотое правило», сформулированное самим Столлманом: «Если мне нравится программа, я обязан поделиться ею с другими людьми, которым она может понравиться. Я не могу по совести подписать соглашение о неразглашении или лицензионное соглашение на программное обеспечение».
Здесь необходимо пояснить, что за «соглашение о неразглашении», которое RSM решительно отказывается подписывать и другим не рекомендует. В 1970-е хакеры столкнулись с серьезным вызовом, подорвавшим основы их профессиональной и творческой деятельности: на рынке одна за другой появлялись компании, решившие монетизировать программное обеспечение, превратить его в коммерческий продукт. Вскоре корпорации перестали предоставлять лаборатории, в которой трудился Столлман, исходный код софта, а через некоторое время многие коллеги RSM бросили науку и ушли в IT-бизнес. На новых местах работы их и заставляли перед получением доступа к дистрибутивам подписывать те самые бумаги о неразглашении, запрещавшие обсуждать код программ и тем более им делиться. Так авторское право пришло туда, где его не только не ждали, но считали совершенно противоестественным.
В меру красивая легенда гласит, что идея создания полностью свободной операционной системы пришла к Столлману, когда в лаборатории перестал нормально работать принтер. Он запросил у коллеги из другого университета исходный код программы принтера, чтобы внести в него небольшие изменения, но, к своему удивлению, получил отказ. «К удивлению» — мягко сказано; сам RSM описывает свои чувства так: «Я просто отвернулся и ушел, не сказав больше ни слова... Я был настолько ошеломлен, что потерял дар речи». Вскоре Столлман покинул институт и дальнейшую жизнь посвятил, во-первых, разработке Unix-подобной операционной системы GNU, а во-вторых — продвижению идей копилефта. Пожалуй, самое удивительное, если смотреть на большой проект Столлмана из циничного 2025 года, даже не энтузиазм и принципиальность RSM, а то, что он не остался один. Поначалу GNU заинтересовались японские программисты, затем анонимный благотворитель из Великобритании отправил Столлману сразу сто тысяч долларов; такую же сумму пожертвовала и корпорация Hewlett-Packard — впрочем, не от чистого сердца, а в рамках кампании по улучшению собственного имиджа. Как бы то ни было, к началу 1990-х проект одного полубезумного человека превратился в полноценное международное сообщество программистов. Русскоязычному читателю книги Тоцци, вероятно, будет интересно узнать, что филиал GNU даже успел несколько месяцев проработать в Советском Союзе — незадолго до подписания Беловежских соглашений.
Другой из центральных героев книги куда больше известен широкой публике, не особо интересующейся сферой разработки программного обеспечения. В 1991 году финский программист Линус Торвальдс представил ядро операционной системы с рабочим на тот момент названием Linux, в итоге за ним закрепившегося вопреки воле автора. Если Столлмана в его деятельности направляло желание вернуть программирование как таковое в естественное моральное русло, то у его коллеги мотивы были несколько отличные. Linux возник в качестве ответа операционной системе Minix, разработанной профессором Амстердамского свободного университета Эндрю Таненбаумом. По замыслу последнего, Unix-подобная ОС Minix должна была стать практическим дополнением к курсу, который он читал студентам. Однако вскоре она вышла далеко за пределы университета: пользователи по всему миру устанавливали ее на свои микрокомпьютеры, как тогда называли ПК.
Раздражение Торвальдса, стремительно перешедшее в нескрываемую ненависть к операционной системе и ее создателю, вызвали многие факторы, среди которых можно выделить три. Во-первых, ограниченный функционал: поскольку Minix создавалась как учебное пособие, Таненбаум отказывался вносить в нее изменения, которые сделали бы ее код непонятным для среднестатистического студента. Во-вторых, ОС требовала серьезных вычислительных мощностей: она со страшным скрипом запускалась на Intel 386, которым тогда располагал Торвальдс — и то благодаря патчу, написанному одним энтузиастом. В-третьих, Minix распространялась пусть и за символическую, но все же плату. Для молодого Торвальдса было принципиально, что его продукт не только имеет открытый код, но распространяется совершенно бесплатно, — за свои труды он не хотел принимать даже десять долларов, ссылаясь на особенности североевропейского менталитета, не особо одобряющего личное обогащение.
И вот хороший вопрос: зачем вообще нужно было писать книгу о жизни и творчестве гиков, работающих по большей части для таких же гиков? Невовлеченному читателю вроде безразлично, в чем суть крайне эмоционального спора между Торвальдсом и Таненбаумом по поводу архитектуры операционных систем. Читатель же вовлеченный, скорее всего, и так знает эту историю — если не застал лично, то наверняка слышал в пересказах. Однако For Fun and Profit все же хочется рекомендовать и тем и другим.
Дело в том, что основная сфера научных интересов Кристофера Тоцци — Франция XVIII-XIX столетий. Поэтому вполне закономерно, что, рассказывая о рождении свободного ПО, он вновь и вновь проводит параллели с эпохой Просвещения и долгой чередой революций — от Великой французской до Февральской и Октябрьской. Для Тоцци люди вроде Столлмана и Торвальдса — Наполеоны, Робеспьеры и в то же время Вольтеры наших дней. В таком разрезе хакеры и их последователи проходят тот же путь, что и политические радикалы прошлого: от войны против власти (корпораций) — к гражданской войне между фракциями внутри своего сообщества. Можно указать, что, в общем-то, неуместно проводить параллели между довольно большой, интеллектуально насыщенной, но все же субкультурой и массовыми народными движениями, определившими и продолжающими определять облик нашего мира. На это Тоцци заранее возражает: большевики тоже были в меньшинстве, что не помешало им получить всю полноту власти в России. Так и свободное программное обеспечение ориентировано прежде всего на относительно малочисленную группу специалистов, от которых зависит технологическое будущее рядовых пользователей.
Но главное в работе Тоцци все же не эти, местами справедливые, но чаще натянутые параллели, а то, что через всю книгу сквозным мотивом приходит не самый праздный вопрос: что вообще такое свобода? И в самом деле: как революционеры, так и реакционеры прошлого и настоящего непременно обещают народу, а порой и всему человечеству некую свободу, не всегда удосуживаясь уточнить, что вообще понимают под этим словом. В отличие от «реальных политиков», хакеры и энтузиасты открытого ПО таким мелочам внимание уделяют и раз за разом сталкиваются с проблемой: даже в сугубо технических и юридических документах невозможно дать универсальное определение тому, какой софт считать свободным, а какой — нет.
Для Столлмана и сообщества GNU, как показывает Тоцци, их работа быстро вышла за узкие рамки сугубо программирования в сторону «продвижения открытой культуры и свободного общества» вообще. Для RMS не так уж важно, каким образом люди будут использовать программное обеспечение, главное — чтобы оно распространялось свободно и позволяло каждому желающему вносить изменения в исходный код. Противоположным путем пошел Торвальдс, упрекавший коллег и соперников в том, что они слишком много уделяют внимания политики, тогда как по-настоящему важно лишь само программирование как независимое искусство. Под свободой ПО он подразумевает вовсе не «свободу в смысле независимости (free as in freedom)», а «свободу в смысле бесплатности (free as in gratis)».
И все же есть кое-что общее у двух ведущих лагерей движения за свободное и открытое программное обеспечение. В социальном измерении они и правда совершают революцию, направленную против доминирующей экономической логики, гласящей: «Бесплатных завтраков не бывает». И заодно — против логики бытовой: «Бесплатный — значит плохой, даром никому не нужный». Проекты GNU и Linux, каждый по-своему, доказали, что есть достаточное количество специалистов, готовых исключительно на энтузиазме создавать продукты, которым может не хватать внешней привлекательности и простоты в использовании, но это будут работоспособные продукты ничем не хуже решений, предложенных техгигантами. И конечно, не вина энтузиастов, что конечный потребитель все равно выбирает услуги дистопических корпораций.
Сейчас мы все проходим через новый виток одержимости технологическим прогрессом, запущенный очередным этапом развития искусственного интеллекта. С момента выхода ChatGPT, привлекшего массовое внимание к большим языковым моделям, прошло почти три года, но до сих пор и дня не проходит, чтобы одни медиа не отчитались о том, как ИИ помог ученым решить непосильную для человеческого ума задачу, а другие — о том, что искусственный интеллект скоро оставит без работы представителей такой-то профессии. В исторической перспективе на самом деле не так уж важно, какие именно возможности предлагает технология искусственного интеллекта в своем нынешнем состоянии. Не так уж важно, какие профессии она упразднит или не упразднит, какие сиюминутные задачи решит или не решит. Глобальное значение искусственного интеллекта уже сейчас заключается в том, что практически нет открытых и свободных ИИ-моделей. Искусственный интеллект, эмансипаторный потенциал которого так настойчиво воспевают маркетологи, закрыт наглухо, и никто посторонний не может посмотреть, что у него «под капотом» (даже сами инженеры не всегда могут). Так что «светлое технологическое будущее» уже сейчас принадлежит вовсе не вам, а ограниченному кругу лиц, подписавших «соглашение о неразглашении».
На такие вот невеселые мысли наводит в целом бодрая и увлекательная книга Кристофера Тоцци «Ради удовольствия и прибыли. История революции свободного и открытого программного обеспечения».