Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Анна Каван. Лед. М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. Перевод с английского Дмитрия Симановского
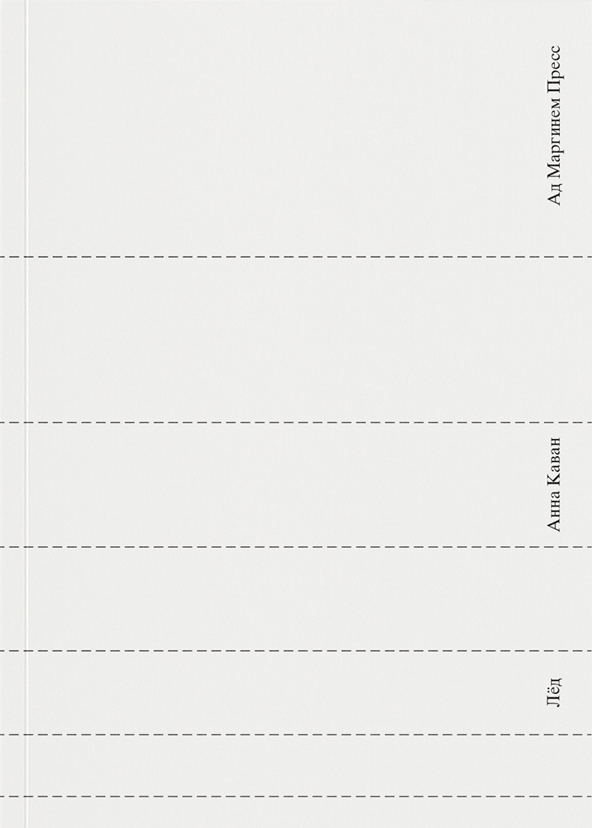 У Анны Каван (1901—1968), урожденной Хелен Эмили Вудс, есть все для того, чтобы стать абсолютным классиком «странной» литературы: ее имя извлек из небытия великий продюсер от мира фантастики Брюс Стерлинг, а разные поколения критиков обнаруживали у нее переклички на любой вкус — от абсурдистского модернизма Франца Кафки до постиндустриального неогуманизма Джеймса Балларда. Тем не менее она остается скорее культовой, нежели классической фигурой — предметом тайного знания для эстетствующих ценителей weird’а и арт-эсхатологии (символично, что один из романов Каван «Сон объял его дом» дал название альбому апокалиптик-фолковой группы Current 93).
У Анны Каван (1901—1968), урожденной Хелен Эмили Вудс, есть все для того, чтобы стать абсолютным классиком «странной» литературы: ее имя извлек из небытия великий продюсер от мира фантастики Брюс Стерлинг, а разные поколения критиков обнаруживали у нее переклички на любой вкус — от абсурдистского модернизма Франца Кафки до постиндустриального неогуманизма Джеймса Балларда. Тем не менее она остается скорее культовой, нежели классической фигурой — предметом тайного знания для эстетствующих ценителей weird’а и арт-эсхатологии (символично, что один из романов Каван «Сон объял его дом» дал название альбому апокалиптик-фолковой группы Current 93).
Что же мешает английской писательнице прийти к аудитории, которая не интересуется специально «маргинальными жизненными стратегиями» и соответствующими литературными практиками? Когда на русском вышел сборник малой прозы «Механизмы в голове», один из рецензентов так выразил свои чувства, возникшие у него за чтением книги: «Те, кому важна информативность в изображении быта психиатрической клиники, будут разочарованы. Именно информации у Каван очень мало. Любителям книг американских психологов, объясняющих, как быть успешным и радоваться жизни, „Механизмы в голове“ тоже не подойдут. У Каван вопрос о счастье даже не стоит. Она настолько сломлена ужасом болезни, что для нее счастьем будет уже просто покой, даже покой смерти. О каком позитивном напутствии читателям может идти речь, если Каван сама признает, что конца мучениям не будет? <...> Опыт Каван вообще непозитивен и не может служить примером. Похоже, книга Каван будет интересна только тем, кому интересна она сама — ее образ, особенности ее личности и биографии и эволюция ее творчества от реализма к мрачному сюрреализму и иррациональности».
Это совершенно верное наблюдение с совершенно неверным, на мой взгляд, выводом. Сейчас, когда «Ад Маргинем» выпустило переиздание романа «Лед», становится понятным, почему наследие Анны Каван способно вызывать такое отторжение. Да, ее опыт «непозитивен», а ее проза дает что угодно, но только не надежду и уж точно не удовлетворение читательского любопытства. Но, с другой стороны, когда это кому мешало? Перечитывая «Лед» зимой 2022 года, наконец понимаешь, в чем главная странность этой книги. Дело в том, что опыт ее автора не просто «непозитивный», он совершенно чуждый, непостижимый, изолированный — это опыт человека, превращенного в вещь.
Анна Каван патологически ненавидела холод и все, что с ним связано: туман и мрак — обязательные составляющие пейзажа в ее прозе. «Лед», написанный за год смерти писательницы, целиком и полностью состоит из этих субстанций. В контексте последней прижизненной книги Каван слово «сюжет» теряет остатки смысла, но общий сеттинг этой абстрактной картины можно описать следующим образом.
На безымянную страну надвигается ледяной апокалипсис: скоро все живое будет уничтожено. Это не мешает безымянным людям творить экстремальное насилие всех сортов. По всей видимости, в мире идет война, причем война тотальная — на полное уничтожение городов: «Шел легкий снег, и сложная структура каждой снежинки видна была с кристальной четкостью — хрупкие звезды и соцветия, различимые до мельчайших подробностей и яркие, как драгоценные камни. Я оглянулся, ожидая увидеть привычные руины, но их не было. Я уже привык к царившему здесь запустению, но теперь все было по-другому. От разрушенного города не осталось и следа; все распалось на части, которые уже успели разровнять, как будто пройдясь по ним гигантским паровым катком. Один или два вертикальных фрагмента оставили словно специально, чтобы подчеркнуть, что все остальное сровняли с землей. Как во сне я шел по городу, в котором не видно было ни живых, ни мертвых».
Безымянный рассказчик разыскивает безымянную героиню, которую постоянно мучают злодеи. Мотивы его поисков не совсем ясны: вероятно, перед гибелью всего сущего ему важно вернуть то, что ему принадлежит. В этом ему мешают не только апокалиптические холода и военные катаклизмы, но сама логика повествования — события, ситуации и обстановка вновь и вновь меняются, разрушая основы прозаического искусства (по всей видимости, из-за этого предпринимались попытки записать Каван в представительницы «нового романа»). Даже само время как будто подверглось замерзанию, превратившись в ледяную решетку: люди здесь одновременно ездят на спортивных автомобилях и размахивают саблями, а их общественное устройство напоминают одновременно феодальный строй и автократии современной автору холодной войны.
Обычно сюжет «Льда» связывают с фактами из биографии Каван: два катастрофически неудачных брака, гибель сына, серьезные проблемы с психическим здоровьем, усугубленные пристрастием к наркотикам, и так далее и тому подобное. Из биографического прочтения романа рождаются две основные его трактовки.
Во-первых, «Лед» можно читать как феминистское высказывание: «отношения» между людьми в изображенном здесь мире подчеркнуто абьюзивные, а роль женщины сведена к исполнению садистских и эротических желаний мужчин. Но в таком случае феминистка из Каван как будто неправильная: в ее романе нет и намека на сопротивление или хотя бы внутренний бунт; кажется, будто описанное ею насилие такая же естественная часть общего хода вещей, как циклопические ледники, надвигающиеся на безымянную страну. Если, скажем, у Моник Виттиг, чья сновидческая техника письма в чем-то родственна кавановскому «слипстриму», женщины режут обидчиков на лоскуты, то героиня «Льда» даже не обретает голос — весь текст сосредоточен на подчеркнуто мужском (и вопиюще эгоцентричном) сознании. (В этом смысле забавно, как дизайн прижизненного издания романа оглушительно кричит об обратном, попутно определяя книгу в категорию Sci-Fi.)
Во-вторых, в романе «Лед» обнаруживаются тенденции к антипсихиатрическому письму. В таком случае велик соблазн читать его как протокол наблюдений за отдельно взятой пациенткой. К подобному взгляду на книгу тоже имеются биографические предпосылки: исследователи жизни Анны Каван полагают, что к двум несчастливым бракам в ее жизни добавилась травмирующая связь с лечащим врачом.
Обе эти интерпретации имеют полное право на существование и по-своему плодотворны, хотя в случае Каван само слово «плодотворный» кажется издевкой. Но к ним, пожалуй, следует добавить третью, связанную с самим жанром «странных» ужасов и его философскими основаниями.
Если кого-то действительно можно назвать подлинным единомышленником Анны Каван в литературе, то это Томас Лиготти — еще один классик-аутсайдер англоязычной литературы. Их объединяют не только формальные сходства (Лиготти тоже разрушает привычные логические связи и тоже «любит» холод), но и навязчивый интерес к овеществлению человека: у Каван это сведение личности к функции, у Лиготти — буквальное превращение в манекенов или мертвых клоунов, то есть во что-то имеющее лишь внешние признаки человеческих существ.
Но, в отличие от Каван, которая был «чистой» писательницей, Томас Лиготти все же разъяснил свои воззрения прямым текстом в философско-публицистической книге «Заговор против человечества». На ее страницах он объясняет многие странности, происходящие в его книгах (и порой до неразличения напоминающие странности книг Каван), идеями радикального пессимизма: мир, считает Лиготти, не дает человеку никакого объективного опыта, а все, что мы принимаем за него, является лишь отходами биомеханизмов наших тел (или «Механизмов в голове», как сказала бы Анна Каван). Он замечает, что депрессия дает мучимому ей ценный урок: больной начинает видеть как на ладони всю объективную бессмысленность своего существования. Но вечно так жить, разумеется, нельзя. Однако и в здоровом состоянии человек не может с уверенностью сказать: «Сейчас я — это настоящий я», поскольку на этот раз становится жертвой коварных аффектов. Поэтому Лиготти приходит к неожиданному выводу: «Вы не можете продолжать думать, что больной вы и есть настоящий вы, иначе вы превратитесь в того, кто хронически обеспокоен мыслями о том, какими способами ваши системы могут выйти из строя. И вот этот кто-то и будет „настоящий вы“».
Так и рождается художественный мир темного weird’а Лиготти или Каван: в этих болезненных и одновременно умиротворяющих текстах зафиксировано сознание ипохондрика, вновь и вновь возвращающегося к травмирующим лично его мыслям, чтобы через них по-настоящему экзистировать. Возможно, в этом и разгадка предельного странного романа «Лед»: никто на самом деле не ищет безымянную героиню, кроме ее самой, пишущей о себе как объекте, лишенном каких-либо жизненных свойств — и, едва подходя к обретению себя, вновь и вновь приходит в трудновыразимый ужас, заставляющий в отвращении менять логику повествования, лишь бы отдалиться от себя самой.
Один православный священник как-то сказал мысль, в моем вольном пересказе звучащую следующим образом: в Страшном суде страшно не то, что Господь увидит тебя таким, какой ты есть, а то, что ты сам увидишь свою истинную природу. Пожалуй, прощальный роман Анны Каван и следует читать именно как книгу о леденящем душу взгляде внутрь себя, но как будто со стороны. Это, конечно, такой хоррор, которому никакие вурдалаки не требуются, чтобы читателю вслед за автором стало, мягко говоря, не по себе.
