Нет, говорит крысиха, которая мне снится: книги недели
Что спрашивать в книжных
Поздний роман Гюнтера Грасса, биография Майи Плисецкой из серии «ЖЗЛ», «Интерпретации фашизма» Ренцо де Феличе, история операции «Немезис» и очерк о том, как война превратилась в искусство. Чрезвычайно марциальный обзор самых интересных книжных новинок вышел у редакторов «Горького» на этой неделе.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Гюнтер Грасс. Крысиха. М.: Альпина.Проза, 2025. Перевод с немецкого Юлии Полещук
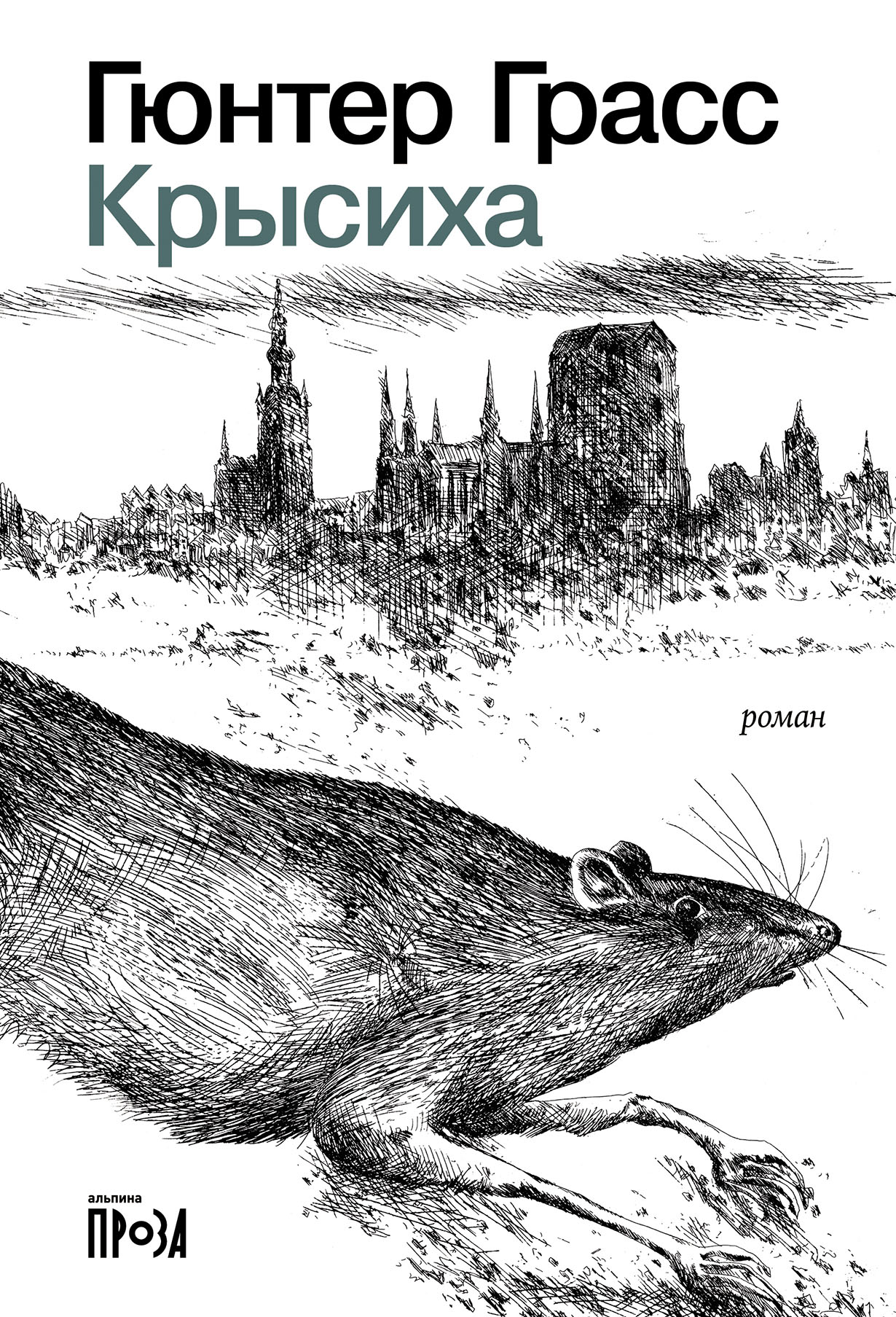
Роман с завлекательным названием «Крысиха» относится к позднему периоду творчества Гюнтера Грасса и особым дружелюбием к читателю похвастаться не может — напротив, автор делает все возможное, чтобы добраться до конца этого зыбкого повествования было как можно труднее. Определяется это постапокалиптической тематикой произведения: мир еще не успел как следует прийти в себя после Второй мировой, как на горизонте уже нарисовалась еще одна мировая, теперь уже ядерная, о причинах и последствиях которой и решил порассуждать немецкий классик. Поскольку диагнозы и выводы его крайне неутешительные, если не сказать беспросветные, то и форма для всего этого подбирается крайне экстравагантная. Центральное место в весьма причудливо устроенном многослойном тексте, пестрящем отсылками к предыдущим произведениям Грасса, занимает шизофренический диалог его альтер эго с крысой — единственной выжившей после нуклеарного армагеддона, которая изъясняется выспренне, сбивчиво, а местами использует такие конструкции, словно хочет свести с ума и своего собеседника, и читателей. Тем самым достигается эстетический эффект большой силы: ритмичные волны речевых сдвигов, языковых вывихов и гротескных образов придают мрачным пророчествам куда большую весомость, чем если бы нам просто в очередной раз стали рассказывать, что отношения человека с природой, историей и себе подобными окончательно зашли в тупик.
«Нет, говорит крысиха, которая мне снится, мы по горло сыты такими небылицами. Это было когда-то и было давным-давно. Все, что написано черным по белому. Испражнения ума и церковная латынь. Наш брат от этого толстый, прогрызся к учености. Эти покрытые пятнами плесени пергаменты, обернутые в кожу фолианты, нашпигованные листками собрания сочинений и слишком умные энциклопедии. От Д’Аламбера до Дидро нам известно все: святая эпоха Просвещения и последовавшее за ней отвращение к познанию. Все выделения человеческого разума».
Николай Ефимович. Майя Плисецкая. М.: Молодая гвардия, 2025. Содержание
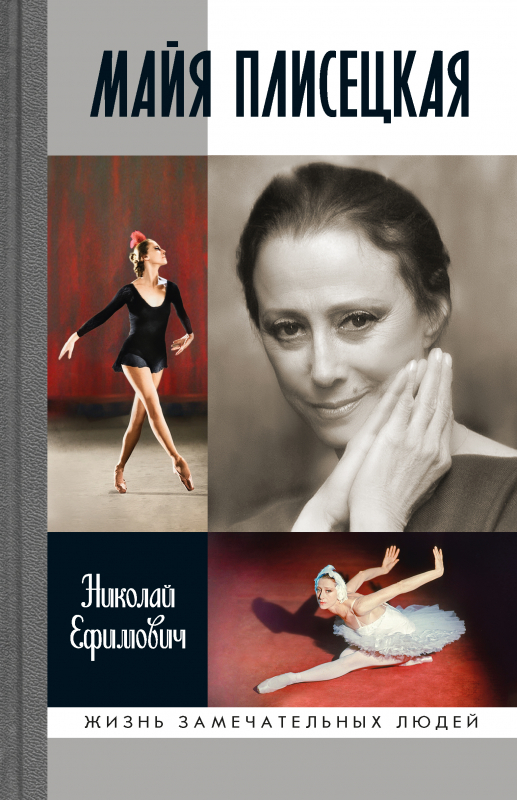
Радикализируя трюизм, согласно которому русская культура — это балет, можно сказать, что русская культура — это Майя Плисецкая. В ноябре этого года исполняется 100 лет со дня рождения великой танцовщицы, и к юбилею в «Молодой гвардии» вышла биография за авторством журналиста Николая Ефимовича, которой хорошо знал Плисецкую и долгие годы с ней общался.
Книга опирается на архивы РГАЛИ, личные фонды и ранее не публиковавшиеся документы, в том числе дневниковые записи тетки Плисецкой, актрисы Елизаветы Мессерер. Есть и вставки из уже выходившей книги от первого лица «Я, Майя Плисецкая…», которую также составлял Ефимович.
То, что получает читатель, в наименьшей степени можно счесть искусствоведческим анализом. Автор честно предупреждает, что его цель — сместить акцент с того, как Майя Михайловна танцевала, на то, какой она была и кто ее окружал. Поэтому биография выстроена «по людям» — от родителей до хореографов — и представляет собой вереницу ситуаций, историй, разговоров.
Местами изложение зависает в опасной близости от публикаций в журнале «Караван историй», но никогда не скатывается в него, во-первых, в силу прозрачности источников, во-вторых, потому, что автор чужд лишнего мелодраматизма и рассказывает по-настоящему небезынтересные вещи об отношениях балерины с советским культурным истеблишментом.
«Ослепшие с яркого дневного света, ощупью входим в притемненный зрительный зал. Министр со свитой заняты важным государственным делом — добрый час рассуждают, куда выгоднее определить хор старых большевиков с революционной песней: в начало или конец концерта. Мы тихо присаживаемся за склоненными к мудрому министру спинами. Диспут закончен. Петь старым большевикам в конце, перед ликующим апофеозом. В зале зажигается свет. Улучшив момент, вступаем с Фурцевой в разговор. Все доводы идут в ход. Но министр непреклонна:
— Большая неудача, товарищи. Спектакль сырой. Сплошная эротика. Музыка оперы изуродована. Надо пересмотреть концепцию. У меня большие сомнения, можно ли балет доработать. Это чуждый нам путь…»
Ренцо де Феличе. Интерпретации фашизма. СПб.: Владимир Даль, 2025. Перевод с итальянского Е. Пудова, Ф. Станжевского
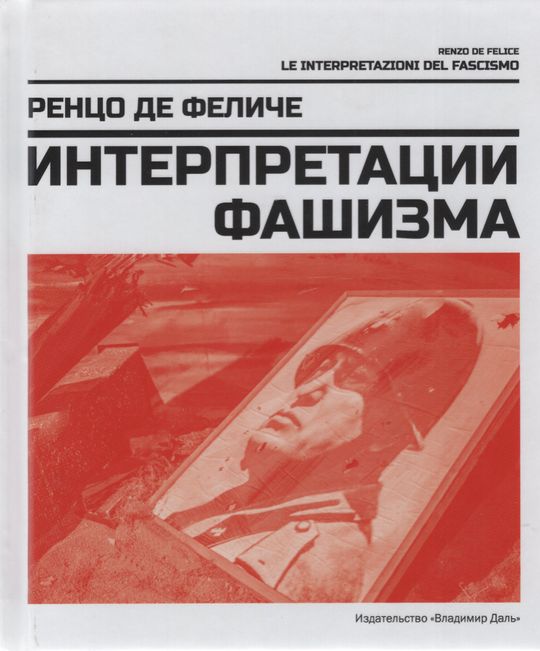
Ренцо де Феличе (1929–1996) — основатель так называемой новой историографической школы исследований фашизма, учитель Эмилио Джентиле и автор семитысячестраничной биографии Муссолини. Его книга «Интерпретации фашизма», опубликованная на итальянском в 1969 году, в свое время возымела эффект практически скандальный. Автора упрекали в ревизионизме, поскольку он постарался выйти за пределы ангажированно антифашистских описаний феномена и предложил рассматривать его как не неизбежную, но вполне логичную часть интербеллума.
Многие из его тезисов сегодня стали чем-то вроде общего места, однако в момент выхода книги они казались революционными. Среди них — указание на то, что между национал-социализмом и фашизмом больше различий, чем сходств; и одно из самых важных касается представления о том, как теоретики двух режимов воспринимали человеческую природу: нацисты — как данность, обусловленную расой, фашисты — как нечто изменяемое, как то, что следует произвести революционным способом.
«Сюжетно» работа представляет собой разбор основных «интерпретаций фашизма», современных автору: в диапазоне от идеи, что это особая моральная болезнь Европы, до теоретических представлений Ханны Арендт. Указывая, что ни одна из проанализированных интерпретаций не может претендовать на полную обоснованность, де Феличе интегрирует их в собственной концепции, которая, быть может, сегодня и не звучит новаторски, но важна для всех, кто интересуется вопросом.
«Фашизм нельзя рассматривать просто как военный психоз. Однако мы не можем игнорировать психологическую роль, которую играют „возбуждение“ и „делирий“, вызванные войной. Рассматривая их в этом контексте, можно сказать, что фашизм был результатом обострения классовой борьбы, ее все более политического характера и относительного равенства между противоборствующими силами».
Эрик Богосян. Операция «Немезис». История возмездия за геноцид армян. М.: Individuum, 2025. Перевод с английского Анны Марголис. Содержание, фрагмент
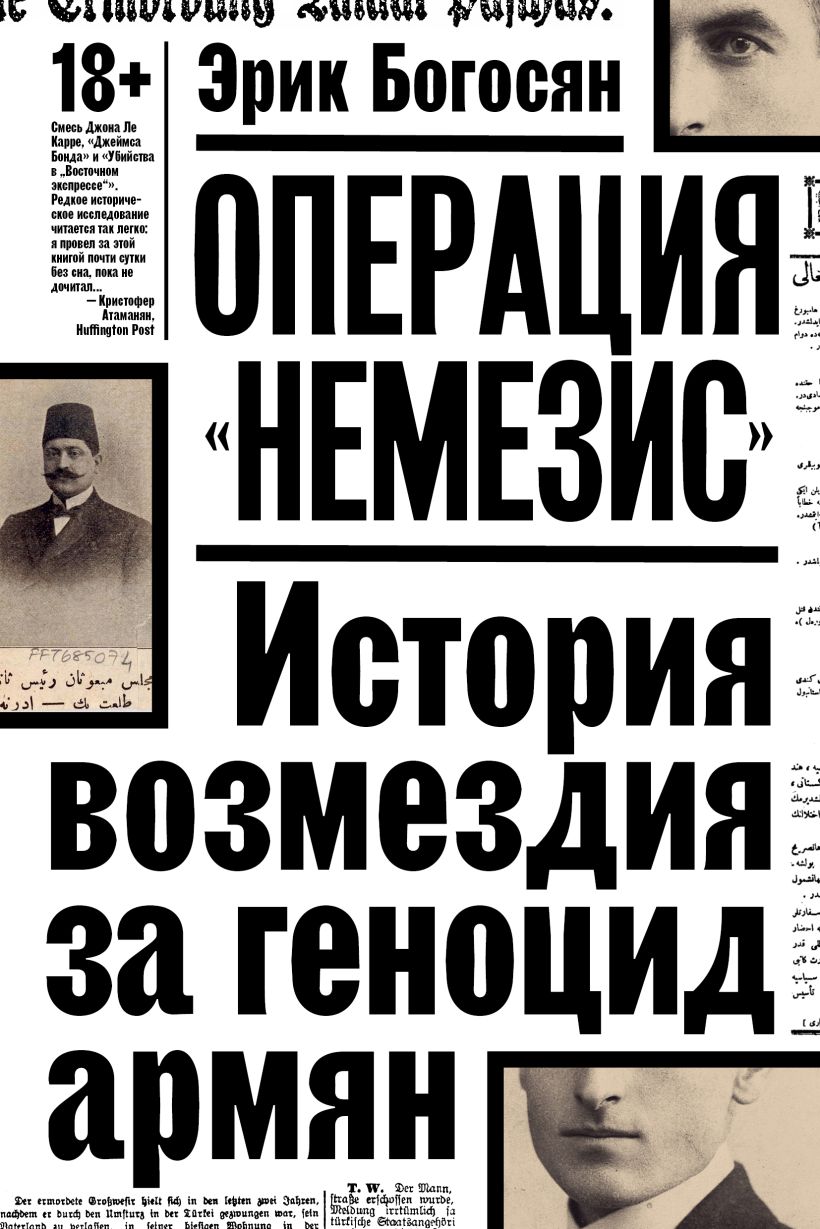
Про геноцид армян написано великое множество книг — как водится, хороших и плохих, сдержанных и эмоционально избыточных, честных и подлых. Жанрово они столь же разнообразны: это мемуары выживших и их потомков, и художественная литература, и разнонаправленная политическая публицистика, и неисчислимые монографии, и столь же, увы, неисчислимые конспирологические и фолк-исторические штудии отрицателей.
И все же книга Эрика Богосяна стоит в этом каталоге особняком — во многом благодаря личному бэкграунду автора. Американец Богосян по основному своему призванию актер, драматург и сценарист, работавший с Оливером Стоуном, Ричардом Линклейтером, Вуди Алленом, Майком Джаджем, Стивеном Спилбергом и многими другими мастерами одновременно массового и авторского кинематографа. Он не историк, но он прекрасно умеет доносить истории до широкой публики, не потакая при этом вкусам толпы.
В этой книге он подробно рассказывает об операции «Немезис» — акции возмездия, участники которой с 1920 по 1922 год последовательно, по списку, казнили высших чиновников Османской империи, причастных к организации массовых убийств армян. Наибольшую известность среди подпольщиков получил Согомон Тейлирян, застреливший в Берлине на глазах многочисленных свидетелей великого визиря Мехмеда Талаат-пашу. Процесс над Тейлиряном привлек массовое внимание к трагедии армян, в итоге подпольщик был признан не заслуживающим наказания.
«Все врачи сошлись во мнении, что в Анатолии Тейлирян, как он и утверждал, пережил травматический опыт. С точки зрения медицины вердикт был ясен: турки причинили Тейлиряну ужасные страдания, он был психологически травмирован, а его состояние предопределило его порыв к убийству. В конечном счете врачи преподнесли защитникам Тейлиряна именно то, на что они рассчитывали.
В конце концов, поскольку судья и присяжные не имели ни малейшего представления об операции „Немезис“, оставалось вынести единственно возможный вердикт. Менее чем через два часа суд вынес решение: „Обвиняемый признан невиновным“. Сначала Тейлирян не понял сказанного. Он повернулся к своему сообщнику и переводчику Вазе: „Что это значит?“ — „Это значит, что ты свободен“.
В зале суда раздались аплодисменты. Женщины бросились к Тейлиряну с букетами цветов. Закарян вывел Согомона через задний выход и посадил в ожидавшую его машину, попросив, чтобы никто не фотографировал. Он понимал, что с этого дня Тейлирян станет мишенью».
Но лично нам эта книга кажется ценной прежде всего не подобными кинематографичными сюжетами, а тем, что Богосян тщательно восстанавливает как предысторию геноцида, так и его последствия, до сих пор во многом определяющие судьбы людей в Малой Азии и на Южном Кавказе.
Андерс Энгберг-Педерсен. Эстетика войны. Как война превратилась в вид искусства. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Перевод с английского Николая Проценко. Содержание
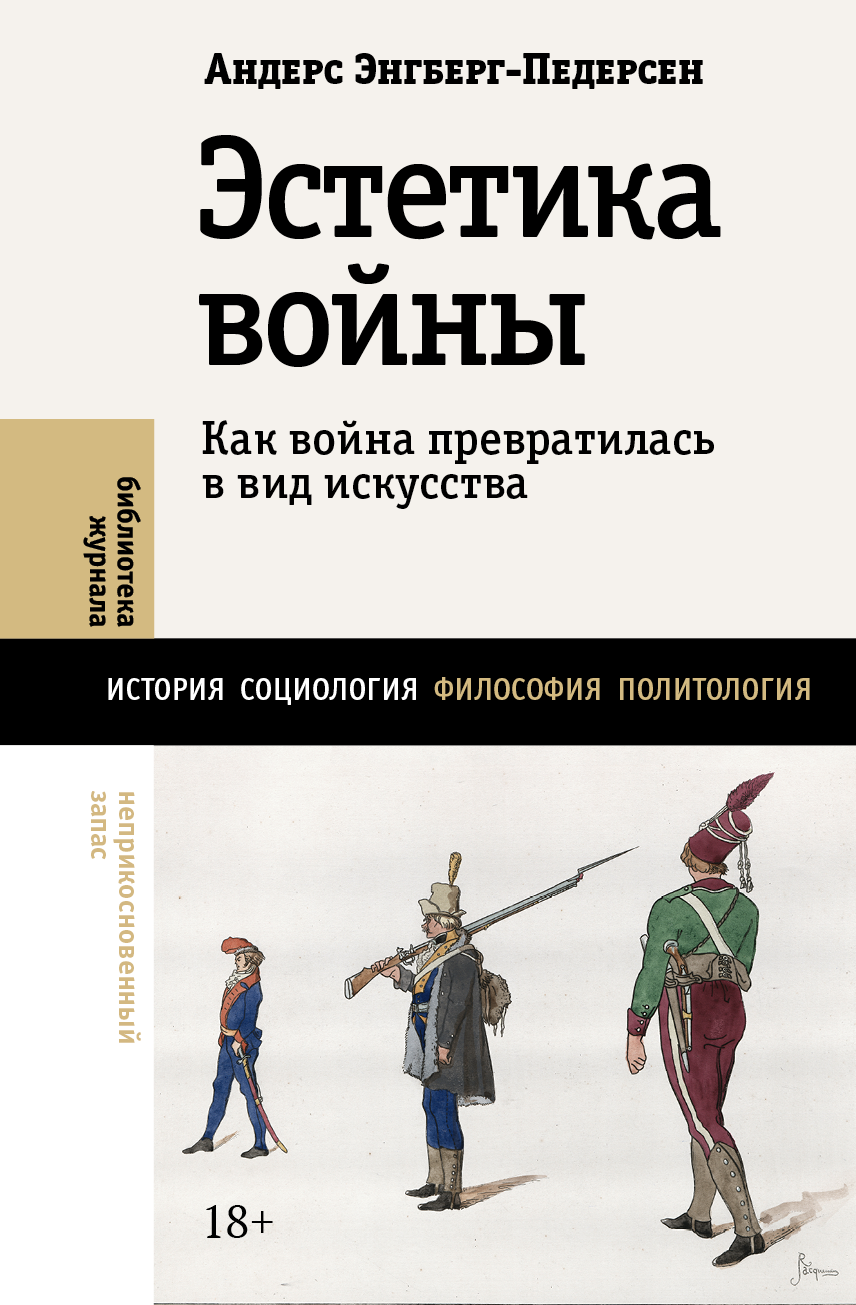
В 2009 году американский генерал Джеймс Мэттис опубликовал меморандум с примечательным названием «К концепции совместного подхода к операционному дизайну». Если не знать, кто автор этого документа, можно подумать, что это просто очередная статья в каком-нибудь журнале о современном искусстве, однако его написал бывалый офицер, впоследствии дослужившийся до поста министра обороны США.
В XXI веке эстетика становится неотъемлемой частью военного мышления, а в соответствующих документах наименования боевой техники перемежаются вроде бы инородными понятиями «креативность», «артистизм», «воображение». Вот, например, характерная цитата из работы израильского бригадного генерала Шимона Навеха: «Системный операционный дизайн есть применение теории систем к оперативному искусству. Это попытка рационализировать сложность при помощи системной логики с применением холистического подхода, который транслирует стратегическое направление и политику в дизайн-проекты на операционном уровне».
Профессор сравнительного литературоведения Андерс Энгберг-Педерсен прослеживает рождение «эстетики войны» (martial aesthetics) с XVII века, когда астроном Иоганн Кеплер составил по заказу генералиссимуса Альбрехта фон Валленштейна астрологический гороскоп. По всей видимости, первый и самый простейший артефакт того самого «операционного дизайна» — попытка прикладного применения в военном деле отвлеченной творческой (игровой) деятельности.
Как демонстрирует Энгберг-Педерсен, на протяжении столетий восприятие войны как (творческой) игры (и наоборот) лишь укреплялось, пока не обрело нынешний вид. Теперь армия, если она претендует на звание по-настоящему современной, просто обязана раскрывать творческий потенциал своих служащих — от этого зависит не только выживание личного состава, но и успех целых операций. И «эстетика войны», само собой, неизбежно проникает в мир гражданский.
«В различных доктринах, уставах и, шире, в дискурсе дизайна в целом война нередко видится приданием отчетливой формы неустойчивому, но при этом податливому и однородному материалу. Территории, войска, население, инфраструктура и интересы противника атомизируются до состояния единообразной массы. Постоянное упоминание „хаоса“ сигнализирует не просто об эпистемологической проблеме — трудности получения надежного и проверенного знания, — оно указывает на состояние, напоминающее начало библейской Книги Бытия: бесформенная масса, чистая материя, которая ожидает акта творения со стороны формообразующей силы. Именно здесь в дело вступает военный дизайн».