Несомненный вайб фрикового флагштока
Рецензия на книгу «Фанк. Музыка, люди и ритмы первой доли»
История фанка Рики Винсента напоминает «Музпросвет» Андрея Горохова: и то и другое — авторское освещение феномена поп-культуры с максимально пристрастной манерой подачи. О том, стоит ли верить винсентовской версии событий, читайте в рецензии Артема Рондарева.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Рики Винсент. Фанк. Музыка, люди и ритмы первой доли. М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2024. Перевод с английского М. Леоновича, под редакцией И. Завалишина. Содержание, фрагмент
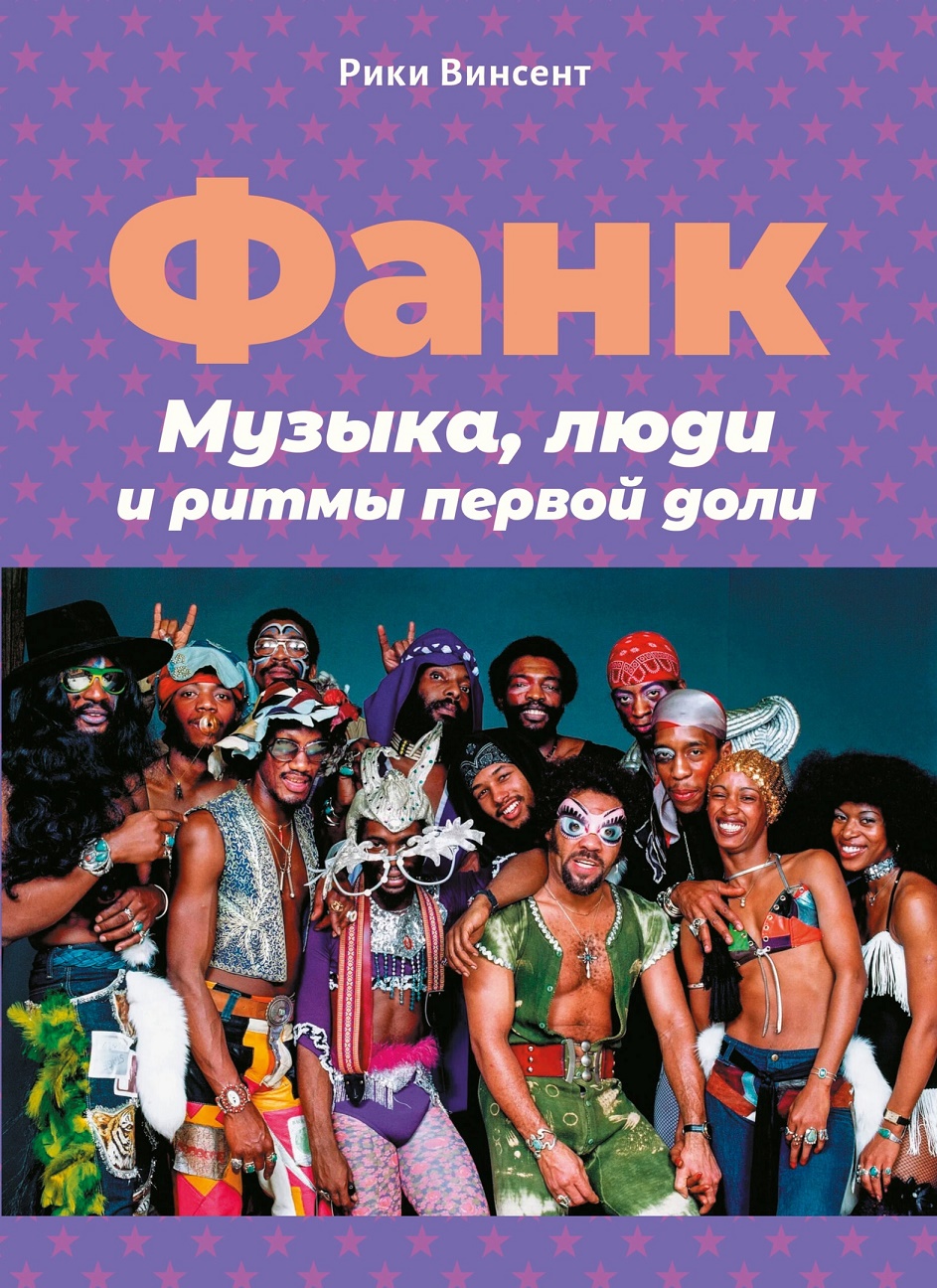
Писать книги о поп-музыке довольно трудно — в чем-то даже труднее, чем о музыке академической. Во втором случае специально обученные люди пишут для специально обученных людей: порог вхождения в эту среду весьма высокий, но, преодолев его, дальше ты как автор оказываешься в весьма комфортной обстановке, где все условия известны заранее и их нужно только тщательно соблюдать, чтобы тебя не выперли из профессии, — публика в этой среде нервная. В случае с поп-музыкой каждый раз приходится решать один и тот же вопрос: как объяснить отличия одной ее формы от другой, чтобы было хотя бы понятно, о чем речь. Поп-музыка тоже имеет свой набор технических характеристик, и, хотя в ее случае это почти всегда не rocket science и характеристики эти легко сводятся к сведениям, содержащимся в учебниках для начальных классов музыкальных школ, масса людей, потребляющих поп-музыку, их не читала — и в своем праве этого не делать. Авторам приходится выкручиваться: если написать, например, что фанк — это музыка с синкопированным ритмом и акцентом на первую долю такта, то, вероятно, придется объяснять, что такое синкопа, доля и такт, а здесь читателя легко потерять; если же этого не писать, то не вполне ясно, с чего начинать. Довольно часто эта дилемма решается, так сказать, экстенсивно: автор принимает такой, если можно выразиться, шалопайский тон, показывая этим, что он пишет для своих, для врубающихся, и начинает сыпать именами, датами, метафорами и анекдотами. И хотя на иной вкус подобного рода чтение — дело весьма утомительное, нужно понимать, что чаще всего это не от глупости или злонравия, а по вынужденной необходимости.
Особенно тяжело приходится авторам, которые пишут про жанры, имеющие пространный набор чисто технических и процедурных правил, — такие как фанк. Можно обойтись общими словами, описывая хип-хоп или блюз; можно, как ни странно, даже описать более-менее общими словами бибоп. Но фанк или (в меньшей степени) регги строго зависят от весьма специфической манеры исполнения — именно поэтому их так легко опознать на слух. Но перечислить набор приемов и процедур, делающих фанк фанком, не углубившись в технические детали и музыкальный анализ и не развезя их на пару страниц без особой надежды на успех, невозможно: поэтому тут приходится брать на себя серьезную ответственность. Или не брать и сразу переходить на шалопайский язык. Осознав эту вводную и помолясь, приступим к чтению книги о фанке.
Сразу, как уже заведено, следует предупредить, что книга эта по нынешним меркам весьма старая — в оригинале она вышла в 1996 году (хотя для настоящего издания автор дописал в конце одну небольшую главу). У автора ее весьма внушительный послужной список — Ph.D. в Беркли по Ethnic Studies (у нас нет эквивалента этой дисциплины, это не этнография), лектор четырех университетов, радиоведущий и автор двух книг. От такого человека логично ожидать определенной академической сдержанности в описании своего предмета, которой в данной книге нет совершенно: она абсолютно и намеренно пристрастна и скорее похожа именно что на цикл радиолекций, чем на академическое исследование, — так, уже во введении Винсент принимается обличать диско следующего рода пассажами: «Невообразимо раскрученная безвкусица под названием „диско“ была изобретена в 1970-х, чтобы довести до чистеньких масс горячие, причудливые элементы фанка в стерильной форме». Ненависть к «чистеньким массам» (оставим даже в стороне тот общеизвестный факт, что изначально диско — это музыка маргинализованных социальных групп) со стороны выпускника Беркли сама по себе довольно комична, однако ненависть к диско — это и вовсе универсальный маркер фаната от поп-музыки. Любой фанат чего бы то ни было, не только фанка, будет громить диско, если оно зачем-то попадется ему на пути: диско — это абсолютный козел отпущения поп-культуры и нужно обладать хоть какой-то исследовательской рефлексией, чтобы не вцепляться в него при любом удобном случае когтями. Да, в предисловии от 2021 года автор признает, что погорячился, и даже находит у диско какие-то плюсы, но, как говорится, «осадок остался».
Кстати, по поводу предисловий. Войти в эту книгу непросто: она содержит целый ряд предисловий — от великого Джорджа Клинтона, от автора к первому изданию, от автора к настоящему изданию, от издателей, еще раз от автора еще по какому-то поводу и так порядка тридцати страниц. Иные предисловия к Канту короче. Хуже того, почти все они не сообщают ничего дельного за пределами того, в каком университете автор читал лекции, в каком году стала популярной такая-то фанк-группа и сколько братанов автора (да, текст в этом смысле сразу не оставляет сомнения о том, в какой тональности дело пойдет дальше, там уже в предисловиях сплошные бро и «фанкатеры») помогло ему в написании сего труда — ей-богу, этот междусобойчик можно было бы ради читателя и сократить.
Но вот, наконец, на тридцать второй странице мы добираемся до вопроса: «Что такое фанк?» В главе с таким названием, впрочем, отыскать можно только следующего вида сообщение: «Фанк невозможно полноценно описать, но мы узнаём фанковый вайб, когда сталкиваемся с ним. Фанк — это идущее из самых глубин грязное чувство, внезапно возникающее, когда крутооой фанковый джем достигает самой жаркой части и вы, забыв о всякой наигранности, поднимаете задницу и зажигаете». (Да, переводчик постоянно передает все эти soooo cooool транслитерацией.)
Затем, спустя еще десять страниц, содержащих, натурально, метафоры, перечисления имен и названий и довольно поверхностный исторический экскурс в шестидесятые и семидесятые («Многочисленные и нередко нелепые попытки применить идею „власть народу“ на практике порождали весьма причудливые ситуации, а также фанковую музыку. Начиная от кинематографа, эксплуатировавшего негритянскую тематику, до телепередачи Soul Train — все свидетельствовало о том, что фанковать тогда было самое время», в таком духе), мы добираемся до главы с названием «Музыка фанк», и здесь автор предпринимает вторую попытку определить свой предмет. Я позволю себе пространную цитату:
«Фанк — это музыкальная смесь. Его самой популярной формой является музыка в стиле ритм-энд-блюз с танцевальным темпом, где ритмичное взаимодействие инструментов возводится на поразительный уровень сложности. Несколько инструментов или звуковых слоев могут двигаться в разных размерах, а затем резко объединиться и выдать синхронно одну ноту или отрывок, чтобы затем так же резко вернуться к ритмичному взаимодействию. Нередко встречаются сложные синкопы. Некоторые фанковые песни имеют плотную структуру и один-единственный бридж (мост) — связующую тему, во время которой инструменты получают определенную степень вольности, хотя и в рамках пересечения друг с другом, прежде чем вернуться к консолидированным мотивам. Другие же представляют собой свободные пульсирующие грувы, на протяжении которых все музыканты общаются друг с другом. Движущую роль играет бас — гудящий, ухающий или взрывающийся. Темп может быть медленным, сексуальным кружением, а может — сверхэнергичным напором, заставляющим вас вскинуть сжатую в кулак руку и размахивать ею. Пока в музыке есть ритм, сплоченность и вайб — это фанк. Как говорит Джордж Клинтон, „если тебе хочется трясти задницей — это фанк“».
Я пока не буду комментировать «танцевальный темп», «движущиеся в разных размерах инструменты» и зачем-то переведенное в скобках слово «бридж» (почему тогда, кстати, оставлен без перевода «вайб»?), просто оцените в целом.
Наконец, далее имеется хотя бы наполовину дельное описание, принадлежащее легендарному тромбонисту Фреду Уэсли: «Если у вас есть синкопированная басовая партия, очень сильный и тяжелый фоновый барабанный ритм, контрапунктирующая гитарная или клавишная партия, а поверх всего этого соул-вокал в стиле госпел — тогда у вас есть фанк». Здесь есть хотя бы относительно внятное указание на манеру вокала.
Тем не менее человека, который не просто поймет весь набор вышеприведенных определений, но и сможет на его основании уверенно отличать фанк от не-фанка, наверное, можно будет показывать в музее. Да, мы уже говорили о том, насколько проблематично, а иногда даже и невозможно описать поп-музыкальный жанр с технической стороны, так, чтобы этим описанием можно было бы пользоваться для определения жанров, но если это настолько трудно, то зачем и браться и, более того, зачем такого рода попытки описаний растягивать на пять-шесть страниц, так, что, продираясь через них, начинаешь буквально сатанеть? Переводчиков часто дрючат за фразу «непереводимая игра слов», поскольку если ты назвался переводчиком, то будь добр, выкручивайся: почему бы эту же логику не распространить на авторов книг о поп-музыке? Взялся описывать — описывай понятно, не можешь — не берись, скажи просто: «Идите послушайте Джеймса Брауна и Parliament-Funkadelic, там сами разберетесь»: а вот это вот «Фанк невозможно полноценно описать», за которым следует двадцать страниц невнятных, лишенных какого бы то ни было метода попыток описаний, стоит все-таки оставить для фанатских сайтов.
В книге шесть частей: в первой излагается теория (уж какая получилась) и история появления жанра. В остальных в хронологическом порядке рассматривается история «фанк-династий», идею которых предложил некий рэп-продюсер, — от истоков, Джеймса Брауна, Sly and the Family Stone и Parliament-Funkadelic к хип-хопу 80-х. Многие главы внутри частей посвящены какой-либо из наиболее заметных величин фанк-музыки — от персонажей до групп. Основная история, как нетрудно предположить, закачивается в середине 90-х; в дописанной для настоящего издания главе сюжет доводится почти до наших дней. Поскольку героев фанк-музыки несметное число, обо всех, за вычетом самых главных ,сообщается скороговоркой и местами довольно хаотично: на Кертиса Мейфилда, например, приходится полторы страницы, половину объема которых занимают высказывания примерно такого рода: «Умение Мейфилда сплавлять самые мягкие соуловые гармонии с воинственной андеграундной тематикой было ключевой составляющей его вклада в Фанк». На Стиви Уандера хватило трех страниц. Остальной мелюзге везет того меньше: «Кроме того, растет популярность совершенно нового олдскульного грува с большими группами, разбрызгивающими звуки разных инструментов на счет раз. Это Monophonics из Области залива, Analog Son из Денвера, Lettuce и Turkuaz из Нью-Йорка, а также Joe Keyes and the Late Bloomer Band из Вестминстера (Мэриленд). По всему миру крутые грувовые пати-группы (такие как The Neon Romeoz из Швеции) и безумные фьюжн-ансамбли (например, Hiatus Kaiyote из Австралии) вращаются и танцуют вокруг этого (фрикового) флагштока и играют этот восхитительный Фанк!» По этой цитате можно не только оценить языковую мощь данной книги, но и сделать вывод о том, насколько это все полезно для интересующейся души: в иных контекстах такое перечисление называют «почетным упоминанием» и проку от него не больше, чем от почетного упоминания, — простой дискографии было бы достаточно (она тут, кстати, тоже, к счастью, есть, весьма подробная и могла бы быть лучшим разделом книги, если бы каждая пластинка в ней не была сопровождена ураганным авторским описанием, например таким: «Несомненный вайб, монстр-грувы» — спасибо, кэп, речь идет о пластинке Sly and the Family Stone). Не следует думать, что это проблема конкретного автора: практически любая книга, которая пытается исчерпывающе описать какое-либо масштабное музыкальное явление, рано или поздно (в данном случае скорее рано) скатывается в подобное невнятное бормотание просто в силу давления материала — исключений видеть не доводилось.
Винсент регулярно сообщает, если можно так выразиться, не вполне корректные сведения — например, он пишет: «Таким образом, из фанковых корешков и джазовых вершков родилась музыка, которую обычно называют „эйсид-джаз“, „редкий грув“ (rare groove) или „джаз-фанк“», — перечисленные жанры это три разных, хотя и связанных явления, писать их через запятую, скажем так, несколько неосторожно. В очередной раз ругая диско, он пишет: «Эти мелодии, создававшиеся продюсерами, как правило, не вызывали ощущения какого-либо развития (с началом, нарастанием, катарсисом, развязкой)...», как будто он никогда не слышал легендарный фанк-трек Айзека Хейса Theme from Shaft (разумеется, слышал, он его мельком упоминает), который все свои почти пять минут вообще стоит на месте. О Вудстоке он пишет (стараясь опять пнуть «чистенькую публику»): «...В отличие от одноименного „грязь-феста“ 1994 года, где доминировали белые артисты, оригинальный фестиваль продемонстрировал творческие достижения самых передовых чернокожих исполнителей эпохи: Джими Хендрикса, Sly and the Family Stone и Santana». Во-первых, Сантана — мексиканец (на что указывает в примечаниях редактор), во-вторых, то, что среди тридцати трех исполнителей и коллективов Вудстока лишь три включали в себя черных музыкантов или состояли из черных артистов (Винсент забыл Ричи Хейвенса — или именно его и перепутал с Сантаной), общепринято считается одним из самых расистских результатов того времени — как минимум именно это и называется по всем правилам «доминировали белые артисты». Вообще, ощущение, что в угоду своей, если можно так выразиться, «политической эстетике» Винсент там и тут подправляет реальность, возникает довольно быстро — и лишь структура книги не позволяет ему в этом смысле развернуться как следует: в перечисления все же политику воткнуть сложно.
В целом эта книга по какой-то отдаленной ассоциации напоминает «Музпросвет» Андрея Горохова: и то и другое это полностью «авторское» изложение особенностей определенного поп-культурного явления (у Горохова это поп-музыка в целом), характеризующееся предельно пристрастной манерой подачи, результатом которой становится своего рода реваншистское переписывание истории предмета, изобилующее какими-то постоянными натяжками и неточностями, на которые некому указать, так как «автор» в такой эстетике становится окончательной инстанцией — если этого не было в реальности, то тем хуже для реальности. Читать это местами довольно увлекательно, верить ли этому — пусть каждый сам на себя берет риск, так как никаких условно «академических» критериев подобный подход не предполагает.
В конце я хотел по традиции что-то написать о переводе, но, наверное, не буду, потому что, с одной стороны, уже по процитированным мной отрывкам можно оценить его, так сказать, вайб; с другой стороны, переводчика можно пожалеть, потому что ему пришлось иметь дело с книгой по музыке, написанной тем самым шалопайским разговорным языком, о котором я упомянул выше и с которым смогла бы справиться разве что Райт-Ковалева; с третьей же, именно такого рода перевод книг о поп-культуре, в котором почти все предложения по смыслу верные, но при этом как-то смутно не по-русски звучащие («Несколько инструментов или звуковых слоев могут двигаться в разных размерах»), уже давно стал у нас мейнстримом, так что, чего уж там, остается только трясти задницей, как завещал великий Джордж Клинтон.