Легко ли быть богачом
О книге Гвидо Альфани «История богатства на Западе»
De ondernemer. Albert Hahn (I), 1905. Rijksmuseum
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Гвидо Альфани. История богатства на Западе. Как боги среди людей. М.: АСТ, 2025. Перевод с английского Александра Яковлева. Содержание, фрагмент
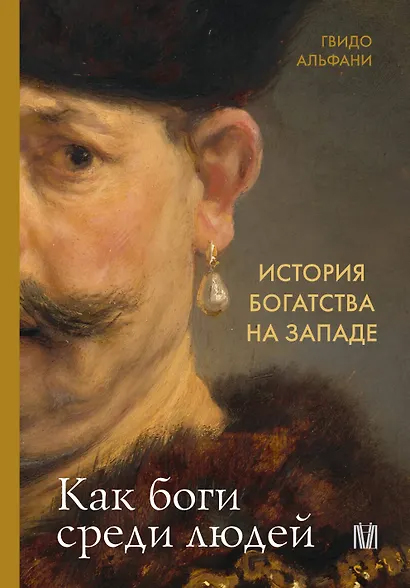
Богач как объект
История богатства и элит несколько дальше уходит в глубь веков, чем история о накоплении материальных ресурсов. О собственности и благосостоянии верхних 5% населения нельзя судить, не исследовав, как социальные различия становятся долговечными структурами, как они превращаются в язык власти, образуют символический порядок, форму культурного господства. Еще в конце XIX века социолог Торстейн Веблен, один из первых исследователей элит, замечал, что богатство — не столько экономическая категория, сколько способ демонстрации особого статуса: избыточное потребление и показная леность оказываются социальными сигналами, закрепляющими положение «праздного класса». Это рассуждение задает рамку последующих исследований: элита всегда говорит с обществом через материальные формы проявления жизненного успеха, и вопрос в том, как этот язык меняется.
В XX веке подход к теме постепенно усложняется. Экономические историки вроде Фернана Броделя показывают, что за фасадом демонстративного потребления скрываются почти геологические пласты генезиса неравенства, уходящие корнями в средневековые институты обмена и подчинения. Социологи, такие как Пьер Бурдье, подчеркивают, что богатство никогда не ограничивается деньгами. Оно превращается в культурный и символический капитал, задающий правила доступа к власти и престижу. Более поздние исследователи указывают на политические и моральные последствия имущественного неравенства.
В наши дни исследования, посвященные богатству, получили новый импульс благодаря французскому экономисту Тома Пикетти, который с помощью масштабной статистики описал долгую траекторию концентрации капитала и показал, что исторические силы работают против иллюзии равенства. Культурные антропологи вроде Элизабет Шимпфессль исследуют новейшие элиты — например, постсоветские, — фиксируя, как они через филантропию, коллекционирование и публичные ритуалы стремятся легитимировать свое положение.
В таком контексте работа итальянского экономиста Гвидо Альфани «История богатства на Западе» занимает малозаметную исследовательскую нишу. В отличие от авторов, чьи труды сосредоточены на современности или на культурных практиках отдельных элит, Альфани предлагает исторический взгляд на их формирование — от позднего Средневековья до XXI века. Концептуальными ориентирами для него служат работы Веблена и Пикетти: у первого он заимствует идею о богатстве как об объеме имущества, а у второго — идею о долговечности институтов, поддерживающих устойчивое положение элит. При помощи разнородной статистики, привлеченной из разных уголков Европы, Альфани показывает, что концентрация богатства и складывание форм социального доминирования не были случайными или краткосрочными процессами. Напротив, они демонстрируют удивительную устойчивость, переживая войны, революции, экономические кризисы и смену режимов. Тем самым Альфани придает исследованию богатства макроисторическую глубину, причем главными действующими лицами его книги становятся не отдельные миллиардеры из списка Forbes, а устойчивые механизмы распределения и накопления, формировавшие социальные иерархии на протяжении столетий.
Хочешь жить — умей вертеться
Вторая часть книги посвящена анализу путей, ведущих к богатству, и институтов, его закрепляющих. Альфани представляет целый каталог стратегий — от рыцарской доблести и пожалованного титула до банковских счетов и акционерных обществ. Из этого перечня следует, что «стези обогащения» всегда были связаны с институциональными возможностями своего времени: когда-то это были военные заслуги, позже — торговый риск, еще позже — игра на финансовых рынках.
Для Альфани оказывается важным различие между двумя видами богатства — унаследованным и полученным собственными силами. В эпоху Средневековья родовой статус закреплял привилегии надежнее любых индивидуальных доблестей. Но и позднее династическая логика брала верх. Нажитое предпринимательством состояние уже через поколение превращалось в наследие, требующее навыков управления, а не харизмы и рыночной смелости. Так возник парадокс: даже самые «новые» деньги быстро стареют, а их обладатели стремятся к аристократическим привычкам, а то и к дворянскому титулу.
Не менее важен анализ финансового пути различных категорий элит. Альфани фиксирует, что деньги, сделанные на деньгах, всегда вызывали наибольшее социальное недоверие — от средневековых запретов ростовщичества до движения Occupy Wall Street. Так обнаруживает себя устойчивое напряжение между экономической рациональностью и моральными представлениями общества. Если предприниматель ассоциируется с инновациями и потенциальной пользой для общества от их внедрения, то банкир — с паразитизмом, и эта асимметрия в восприятии тянется из века в век.
В финале второй части Альфани переходит к поведенческим моделям. Что делать богачу со своим состоянием — тратить или копить? С одной стороны, демонстративное потребление регулярно становилось поводом для осуждения — от принятия законов о роскоши до критики со стороны интеллектуалов. С другой, избыточные накопления грозили окостенением социальной структуры: богатство, превращаясь в династическое, способствует остановке социальных лифтов. В этом двойном движении — между расточительностью и бережливостью — и обнаруживается особенность западной истории богатства: богатые всегда должны оправдывать свое существование, но способы оправдания меняются вместе с институтами и культурой.
Богач под надзором
В третьей части книги Альфани прослеживает историю своего рода переговоров между богатыми и остальными членами общества. С тех самых пор, когда христианская традиция объявила накопление грехом, богатство стало нуждаться в оправдании. Едва ли не главная из доступных богачам стратегий — «великолепие»: строительство храмов, меценатство, щедрые дары городу. При этом богачами-филантропами во все времена в меньшей степени руководили добрые помыслы, чем необходимость символической интеграции в общество, поиски способов сделать свое богатство приемлемым.
Альфани показывает, что эта логика сохранялась и в Новое время, лишь меняя форму. Если Козимо Медичи легитимировал свою власть через покровительство искусствам, то Джон Морган — через роль «спасителя последней инстанции» во время банковского кризиса. Современные миллиардеры используют филантропию и благотворительные фонды с той же целью — но им никогда не удается полностью преодолеть общественное недоверие. У «простых» людей всегда сохраняются подозрения, что акт дарения со стороны богача — это попытка уклониться от налогов и покупка влияния.
Отдельный вопрос в рамках этой темы связан с политикой. От античных мыслителей до Пикетти повторяется одна и та же мысль: чрезмерная концентрация богатства несовместима с нормальным функционированием институтов. Альфани пишет, что богатым свойственно не только поддерживать государство в трудные минуты, но и подчинять его своим интересам. Пример Медичи здесь соседствует с историями о политическом успехе Дональда Трампа или Сильвио Берлускони — фигур, для которых капитал стал ресурсом, обеспечившим доступ к власти.
Наконец, в главах о кризисах — от Черной смерти до пандемии COVID-19 — Альфани фиксирует ключевое различие между старыми и новыми временами. В прошлом катастрофы действительно разрушали династические состояния и хотя бы на время запускали социальные лифты. В XX-XXI веках, напротив, кризисы по отношению к элите оказались мягкими. Богатые быстро восстанавливали потери, а их участие в общественном благосостоянии — в виде налогов и взносов — становилось все более символическим.
Вопрос о богатых — это вопрос о границах социальной легитимности элиты. Может ли сохраняться устойчивость демократических институтов, если вершина пирамиды не желает разделять риски общества? Альфани не дает ответа, но историческая перспектива, которую он выстраивает, делает саму постановку этого вопроса неизбежной.
В заключение Альфани подчеркивает, что в западной традиции богач, что бы он ни делал, всегда остается объектом критики. Если он склонен к чрезмерным тратам, то это вызывает у окружающих зависть, если он по натуре скряга, то неизбежно оказывается еще сильнее оторван от своих сограждан по уровню благосостояния. За богачом не прекращая следят разные агенты, в той или иной мере призывающие к социальной справедливости: церковь, государство, интеллектуалы, медиа.
Однако это пристальное внимание к состоянию 5% населения, сконцентрировавшего в своих руках наибольшие богатства, не означает, что их положение устойчиво и они оказались на самом верху если не навсегда, то очень надолго. Альфани уверен, что, пусть сегодня и может показаться, будто место элиты в социальной структуре общества прочно как никогда, в исторической перспективе это аномалия или статистическое исключение. Вообще-то место богача на вершине социальной пирамиды шатко, и любой серьезный катаклизм — экономический кризис, война или пандемия — может сбросить его в самый низ. Но парадокс богатства как раз и состоит в том, что всякий раз после краха прежней модели распределения благ оно конструирует новые институты, обеспечивающие особое положение своим владельцам.