Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Александр Родченко. В Париже. Из писем домой. М.: Ад Маргинем Пресс, 2023
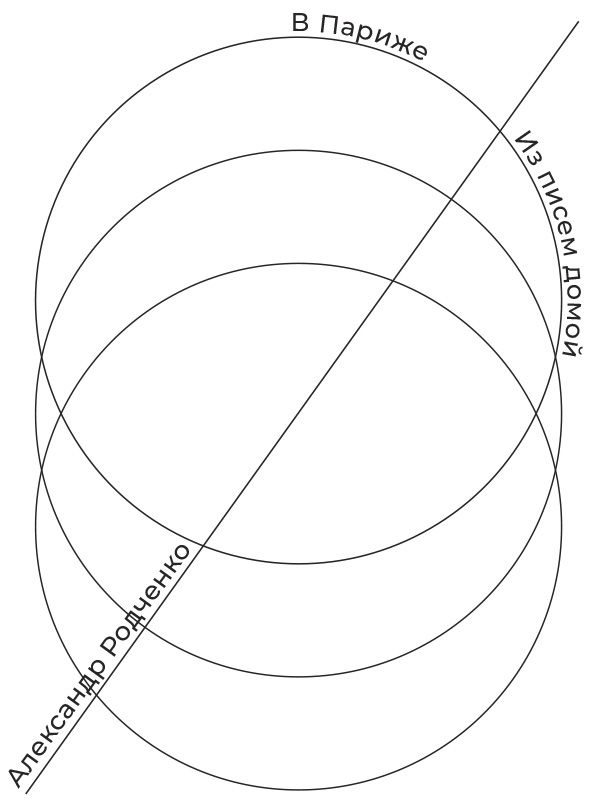 Александр Родченко был за границей лишь однажды: в марте 1925 год он отправился в Париж, чтобы оформить советский павильон на Всемирной выставке. Родченко пробыл в столице Франции до середины июня и почти каждый день писал письма домой своей будущей супруге Варваре Степановой. Отрывки из его писем были опубликованы во втором номере журнала «Новый ЛЕФ» за 1927 год.
Александр Родченко был за границей лишь однажды: в марте 1925 год он отправился в Париж, чтобы оформить советский павильон на Всемирной выставке. Родченко пробыл в столице Франции до середины июня и почти каждый день писал письма домой своей будущей супруге Варваре Степановой. Отрывки из его писем были опубликованы во втором номере журнала «Новый ЛЕФ» за 1927 год.
Участники Левого фронта искусства, возобновившие выпуск собственного издания после двухлетнего перерыва, считали, что в послереволюционную эпоху происходит «отмирание искусства», а на смену художественной литературе приходят документальные жанры. Подобные взгляды, озвучивавшиеся лефами с первой половины 1920-х годов, к концу десятилетия выкристаллизовались в теорию «литературы факта». В 1929 году увидел свет одноименный сборник, куда вошли их теоретические и практические опыты за последние несколько лет.
Осип Брик, один из ведущих теоретиков ЛЕФа, писал об упадке сюжетной прозы и повышении интереса к прозе бессюжетной (мемуарам, дневникам, биографиям и так далее), где «интриги уже нет, или почти нет, и служит она только связью для соединения отдельных наблюдений, анекдотов, мыслей в одно литературное целое». По мнению Брика, читателей стали больше интересовать не увлекательные вымышленные истории, но положенные в основу произведений реальные факты. Сюжет, как отмечал Виктор Шкловский в том же сборнике, неизбежно искажает факты сразу на двух уровнях. Писатель отбирает только тот материал, что соответствует намеченной им сюжетной схеме; более того, он перерабатывает материал таким образом, чтобы в эту схему его вписать. Поэтому теоретики литературы факта призывали отказаться от сюжета и предпочесть «лжи искусства» «правду жизни».
Но если сюжет исчезает, то на место ему должен прийти какой-то другой связующий элемент. «Элементарнейшей заменой, — писал Шкловский, — является метод передвижения точки рассказывания, пространственное в путешествии или временное в мемуарах. Здесь у нас чистый интерес к материалу и условный метод перехода от факта к факту». Поэтому среди литературной продукции лефов особое место занимали травелоги или путевые очерки, как их тогда называли. О своих поездках по Азии, Европе и США писали, например, Маяковский, Сергей Третьяков, Николай Асеев, Борис Кушнер — и нет ничего удивительного в том, что редакция «Нового ЛЕФа» решила опубликовать парижские письма Родченко, сотрудничавшего с изданием как фотограф.
Николай Чужак, расходившийся во взглядах с Бриком и Шкловским, утверждал, что в литературе факта сохраняется некое подобие сюжета: «Сюжет невыдуманный есть во всякой очерково-описательной литературе. Мемуары, путешествия, человеческие документы, биографии, история — все это столь же натурально-сюжетно, как сюжетна и сама действительность. <...> Жизнь — очень неплохая выдумщица, а мы — всячески за жизнь, мы только против выдумки „под жизнь“». Если рассуждать в предложенных Чужаком категориях, то можно сказать, что в письмах Родченко как раз присутствует «невыдуманный» сюжет. Перед нами разворачивается рассказ о подготовке советского павильона выставки, открытие которой постоянного откладывается, и сопутствующих трудностях:
«Работаем и все еще не начали строить. Хотели вчера дать делать эскизы комнат кинопостановки, но, прочитав сценарий, я отказался — такая пошлость и мерзость».
«Сижу в павильоне, работаю над Гран-Пале. К 24 [апреля] все должны сделать, а работы уйма. Все комнаты Гран-Пале красятся по моим эскизам».
«Выкрасили павильон, как я раскрасил проект — красное, серое и белое; вышло замечательно, и никто ни слова, что это я, а советы спрашивать — так всюду меня.
Гран-Пале, шесть комнат, весь подбор цветов мой, а опять обо мне молчат...»
Но основной интерес в письмах Родченко представляет вовсе не этот сюжет, а описания повседневной жизни Парижа и нравов его жителей. Шкловский отмечал, что для очеркиста важно найти точку зрения на описываемые явления, «сдвигающую материал и дающую возможность читателю заново его перестроить». В качестве примера он приводил путевые очерки Кушнера «103 дня на Западе», где «материал остранен хозяйственным к нему отношением», и «Суховей», который «сработан на том, что пустыня описана как объект индустриализации». Аналогичный подход мы наблюдаем и в письмах Родченко, который смотрит на Париж не как праздный фланер, но глазами авангардного художника, изучающего взаимоотношения человека и материальных объектов.
В статье «Леф или блеф», полемическом отклике на первые номера журнала «Новый ЛЕФ», критик и редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский заявил, что Родченко не заметил культурной жизни Парижа и классовой борьбы французский рабочих: «Все это заслонили от него обтянутые зады и бесконечные биде». Действительно, при чтении писем Родченко сразу бросается в глаза, насколько большое внимание он уделяет довольно приземленным вещам: бытовым привычкам французов, ценам на одежду и блюда в ресторанах, походам по магазинам и так далее. Например, Родченко регулярно отчитывается Степановой о приобретенных им вещах:
«Сегодня купил ночные туфли, без них я очень простужался. Здесь они необходимы, ибо целый день в ботинках устаешь; с удовольствием вспоминал свои валенки».
«Днем купил себе две рубашки, еще нужно купить летнее пальто. Купил проклятую шляпу, ибо в кепке ходить нельзя, так как в ней ни один француз не ходит, а потому на меня везде смотрят с неудовольствием, думая, что я немец».
«Я купил граммофон маленький и четыре пластинки с модными джаз-бандами.
Может быть, вместо зеркалки купить фотоаппарат, который заряжается пленкой кино на 60 снимков, который стоит всего 50 фр.».
Многочисленные упоминания о материальных аспектах парижской жизни можно объяснить характером взаимоотношений Родченко и Степановой, связанных общим бытом. Но подобное объяснение сильно упрощает ситуацию. Как пишет Кристина Киаэр, приехав в Париж, Родченко испытал шок от соприкосновения с современным мегаполисом, серьезно отличавшимся от привычной ему Москвы, где по улицам в то время еще ходили конные экипажи. Что еще более важно, он столкнулся лицом к лицу с полноценной капиталистической экономикой, одно из основных отличий которой от экономики социалистической заключается в ином статусе материальных объектов: при капитализме вещи сулят потребителям «фантасмагорическое удовольствие» от обладания собой, каждый раз обманывая ожидания и подталкивая к новым приобретениям. При социализме же, как полагал Родченко и другие авангардисты, вещи превращаются в «активных и полезных товарищей человеческого субъекта». Они, по словам искусствоведа Екатерины Деготь, не обманывают, а «честно выполняют свое предназначение: теплые штаны греют, макароны питают, зенитные установки стреляют».
Родченко отдает себе отчет в том, что вещи не просто обслуживают потребности человека, но напрямую влияют на его повседневную жизнь. Как отмечает Киаэр, советский авангардист начинает меняться под воздействием западных товаров и фиксировать эти изменения. «Уже купили воротничков две штуки и галстук. Стал похож черт знает на кого», — пишет Родченко 19 марта 1925 года, находясь еще в Риге. А вот письмо от 24 марта из Парижа: «За гроши, то есть за 80 рублей, я купил костюм, ботинки и всякую мелочь — подтяжки, воротнички, носки и пр. К сожалению, прежний я исчез внешне. Но так здесь ходить невозможно». И внешне, и по своим бытовым привычкам («Я стал совсем западником. Каждый день бреюсь, все время моюсь».) Родченко начинает походить на буржуазного обывателя и испытывает понятную тревогу. Но это дополнительно убеждает его в том, что для революционного преобразования общества недостаточно просто свергнуть реакционный политический режим: необходимо изменить характер взаимоотношений между человеком и окружающими его вещами.
При этом для Родченко пребывание в Париже — это возможность перенять опыт более развитого в технологическом отношении Запада: «Вчера, смотря на фокстротную публику, так хочется быть на Востоке, а не на Западе. Но нужно учиться на Западе работать, организовывать дело, а работать на Востоке. <...> Да, но и другие сидят и работают, и ими создается индустрия высокой марки, и опять обидно, что на лучших океанских пароходах, аэро и проч. будут и есть опять эти фокстроты, и пудры, и бесконечные биде». Советский авангардист обозначает две стороны капиталистической модерности. Приветствуя технологический прогресс, он в то же время обличает сопровождающие его излишества и сокрушается из-за того, что столь обширные ресурсы расходуются на производство потребительских безделушек. Родченко в общих чертах намечает проект, который историки называют сегодня «альтернативной социалистической модерностью». СССР необходимо приобщаться к технологическим достижениям Запада, освобождая их от развращающего влияния капиталистической экономики: «Гибель Европы, — нет, она не погибнет. Что она сделала, все пойдет в дело, только нужно все вымыть, вычистить и поставить цель». В середине 1920-х годов индустриализация в СССР еще не началась, но руководство партии остро осознавало ее необходимость: вопрос был лишь в методах. Когда процесс наконец был запущен, важную роль в нем сыграли иностранные специалисты и технологии — главным образом из США, еще одной точки притяжения для путешествующих советских интеллектуалов.
Размышляя о позитивных и негативных аспектах капиталистической модерности, Родченко обращается к дихотомии мужского-женского. На Западе мужчина — это деятельный субъект, двигающий прогресс и преобразующий мир вокруг себя, а женщина — наиболее активный потребитель (Родченко неслучайно все время возвращается к теме женской моды) и одновременно ярчайший пример того, что Георг Лукач несколькими годами ранее назвал «овеществлением». В условиях капиталистической экономики женщина превращается в своего рода потребительский товар — например, интерес к ней начинает зависеть от модных веяний. «Культ женщины как вещи, — рассуждает Родченко в письме от 25 марта. — Культ женщины как червивого сыра и устриц, — он доходит до того, что в моде сейчас „некрасивые женщины“, женщины под тухлый сыр, с худыми и длинными бедрами, безгрудые и беззубые, и с безобразно длинными руками, покрытые красными пятнами, женщины под Пикассо, женщины под „негров“, женщины под „больничных“, женщины под „отбросы города“». Как и любые вещи, производимые в промышленных масштабах, женщин капиталистического Запада отличает высокая степень стандартизации. «Женщины тоже одеваются одинаково, так что своей жены не найдешь», — жалуется Родченко в другом письме. Неудивительно, что эмансипация женщин мыслится им по аналогии с освобождением вещей от власти мнимой капиталистической рациональности. При этом Родченко убежден, что революционный импульс не может возникнут в недрах самого буржуазного общества, он должен быть привнесен извне: «Свет с Востока — не только освобождение трудящихся. Свет с Востока — в новом отношении к человеку, к женщине и к вещам. Наши вещи в наших руках должны быть тоже равными, тоже товарищами, а не этими черными и мрачными рабами, как здесь».
Родченко занимает двойственную позицию в отношении капиталистического мира. С одной стороны, он призывает учиться и заимствовать у Запада, а с другой — считает себя провозвестником грядущей революции: художественной, политической, социальной и бытовой. Такое позиционирование предполагает сложную и нелинейную темпоральную структуру, согласно которой СССР в одних аспектах опережает буржуазный мир, а в других — отстает от него, но в конечном счете движется по безусловно прогрессивной траектории. Родченко оказался в Париже в тот период, когда культурная политика СССР характеризовалась относительной открытостью. Советские интеллектуалы, писатели и художники часто выезжали за рубеж, преследуя не только агитационные цели, но и для того, чтобы изучать другие страны и культуры. В 1930-е годы начали усиливаться изоляционистские тенденции, зарубежные поездки стали более редкими и строже контролировались властями. Основной их целью было создание в Европе широкого антифашистского альянса, а сама идея о том, что страна победившего социализма может что-то заимствовать на Западе, становилась все более и более проблематичной. Парижские письма Родченко — документ той краткой эпохи, когда официальные и неофициальные представители Москвы пристально вглядывались в буржуазный мир, балансируя между чувством собственного превосходства, искренним интересом и жгучей завистью.
