Репортер без границ
О собрании путевой прозы футуриста Сергея Третьякова
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге выпустило сборник путевой прозы Сергея Третьякова. В издание включены заметки поэта-футуриста о путешествиях в Китай и Грузию, Чехословакию и Сибирь. Константин Митрошенков — о том, как в этой книге парадоксально слились искренний интернационализм и колониальная оптика.
Сергей Третьяков. От Пекина до Праги. Путевая проза 1925–1937 годов. Очерки, «маршрутки», «путьфильмы» и другие путевые заметки. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. Содержание
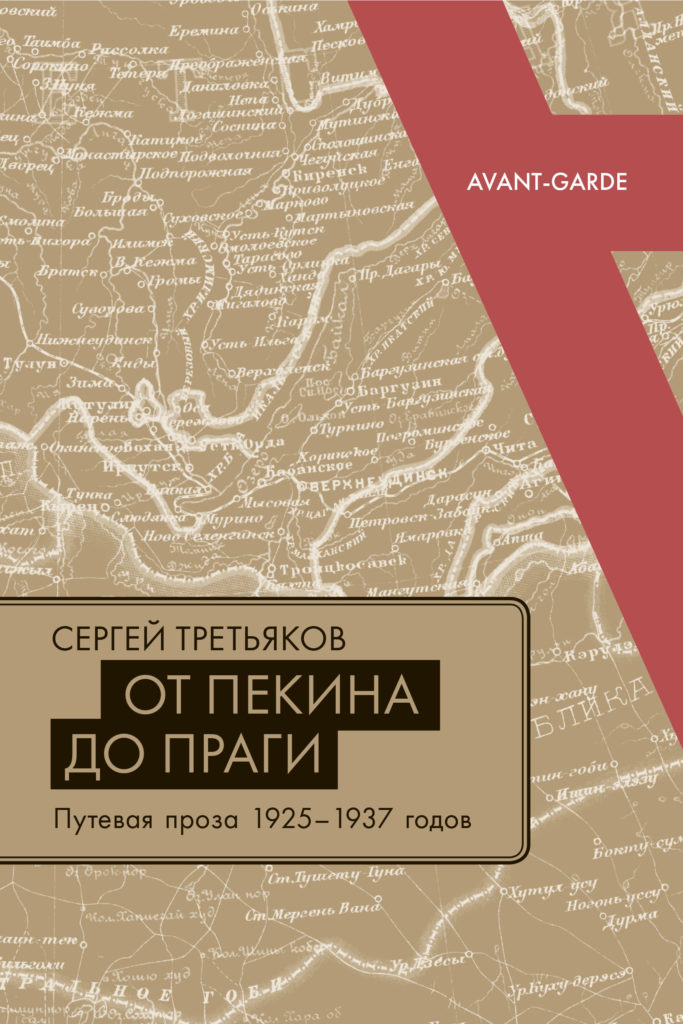 Сергей Третьяков много путешествовал. Он родился в 1892 году в прибалтийском городе Гольдинген (ныне Кулдига, Латвия), учился в Московском университете, а в годы революции оказался на Дальнем Востоке. Во Владивостоке Третьяков входил в группу футуристов и в 1919 году опубликовал свой первый поэтический сборник. В начале 1920-х годов он возвращается в Москву и работает с Мейерхольдом и Эйзенштейном. В 1924–1925 году Третьяков преподает русскую литературу в Пекинском университете, а в 1930–1931 году совершает поездку по Германии и Австрии, где рассказывает о достижениях первой пятилетки и знакомится с Брехтом, Эрвином Пиксатором, Гансом Эйслером и другими левыми художниками. В перерывах между зарубежными командировками — посещение колхозов и социалистических строек.
Сергей Третьяков много путешествовал. Он родился в 1892 году в прибалтийском городе Гольдинген (ныне Кулдига, Латвия), учился в Московском университете, а в годы революции оказался на Дальнем Востоке. Во Владивостоке Третьяков входил в группу футуристов и в 1919 году опубликовал свой первый поэтический сборник. В начале 1920-х годов он возвращается в Москву и работает с Мейерхольдом и Эйзенштейном. В 1924–1925 году Третьяков преподает русскую литературу в Пекинском университете, а в 1930–1931 году совершает поездку по Германии и Австрии, где рассказывает о достижениях первой пятилетки и знакомится с Брехтом, Эрвином Пиксатором, Гансом Эйслером и другими левыми художниками. В перерывах между зарубежными командировками — посещение колхозов и социалистических строек.
В 1920–1930-е годы Третьяков опубликовал несколько сборников путевой прозы. В антологию, подготовленную Татьяной Хоффман и Сюзанной Штретлинг, вошли выдержки из всех этих книг. Как пишут составительницы, отобранные тексты «дают не только общее представление о строительстве Советского Союза и развитии „советского культурного ландшафта”... но и демонстрируют эволюцию поэтики самого Третьякова на протяжении двух десятилетий — от авангардистского „обновленного” языка с его неологизмами и отрывистой интонацией до экспериментальных форм „био-интервью” и „оперативного очерка”. <...> Наш сборник избранных текстов не претендует на полноту, но вполне репрезентативен, соединяя опубликованные Третьяковым очерки в монтажную панораму — с диапазоном от Азии до Западной Европы».
Третьяков обращается к очерку в середине 1920-х годов, когда начинает формулировать свою «фактографическую» программу. По мысли Третьякова, после пролетарской революции на смену привычным художественным формам должна прийти «литература факта», не рассказывающая вымышленные истории, а работающая с тем материалом, который поставляет ей сама жизнь. При этом писателю нового типа предстояло не пассивно фиксировать происходящее, а активно вмешиваться в реальность, организуя и трансформируя ее — то есть стать «оперативным» автором, если использовать выражение самого Третьякова: «Если я начинал [с очерков], которые поневоле только отображали то, что я успевал схватить малоопытным глазом, то теперь эти очерки из информационных становятся оперативными. Они не просто перечисляют совершающиеся факты, они видят эти факты в их развитии и требуют немедленного вмешательства в совершающиеся события».
В колхозных очерках из сборника «Вызов» (1930) Третьяков пишет, что очеркисту нужно выбрать правильную точку наблюдения: «Самое скверное — это наблюдать в качестве туриста или почетного гостя: или увидишь по-обывательски, или ничего не увидишь». От очерка требуется не личное мнение писателя, «а то, что нужно сегодняшнему дню в плане социалистического строительства». Для этого писатель должен вникнуть в жизнь колхоза, желательно — поселиться там на долгий срок и работать вместе с колхозниками. «Работа заставит людей обращаться ко мне за делом, а не просто из любопытства», — размышляет Третьяков о дальнейшей работе над очерками. Хоффман и Штретлинг проводят параллель между его подходом и методом включенного наблюдения в этнографии.
Дэвин Фор отмечает, что развитие фактографического проекта было тесно связано с «бумом новых медиатехнологий и связанных с ними культурно-массовых формаций». Многие очерки Третьякова публиковались в сопровождении фотографий, сделанных им на «Лейку» — компактную камеру, которую удобно было брать с собой в поездки. В очерке «Дядька, который снимает» (1930), он рассказывает о своем методе фотосъемки и доказывает, что камера незаменима для «оперативного» автора: «По проявленным лентам Лейки я устанавливаю свой путь, эпизоды и встречи, зачастую лучше, чем по разрозненным блокнотам». В очерках 1930 года Третьяков также размышляет о роли газеты и кино. Если первый медиум размывает границы между автором и читателем, вовлекая широкие массы в процесс культурного производства, то технические возможности второго позволяют создавать масштабные кинохроники, демонстрирующие достижения социалистического строительства.
Но интерес Третьякова к техническим новинкам не ограничивался теми из них, что были непосредственно связаны с художественными практиками. В очерке «Сквозь непротертые очки» (1930) он описывает полет на самолете и трудности, возникшие у него при попытке зафиксировать новый для себя опыт: «У меня начинают работать механизмы поэта и литературщика — цепь примитивно привычных ассоциаций, приводящая все видимое или часть его к так называемым художественным образам». Новая точка обзора — из окна самолета — дает возможность не только преодолеть автоматизм восприятия, к чему стремились авангардисты, но и аналитически, «оперативно» взглянуть на происходящее на земле:
«Изменение цвета почв лезет в глаза. Нет действующих лиц. Есть действующие процессы. Сцены ревности, драк и объятий героев отсюда не видны... Но зато отсюда видны хозяйственные районы, тучность урожаев и костлявая худоба недородов. Отсюда видны болезни уездов, нарывы районов, малокровие рек. <...> Когда по-настоящему заточится глаз, он станет различать сверху разницу между посевами коммун и единоличников; он будет диктовать мозгу рефлекс восхищения сводными массивами совхозных нив, сменяющих „лоскутное одеяло” деревенской чересполосицы; уход старых каменных городов в зеленую сетку садов; новизну и прямые просторы рабочих поселков».
Литературный неоколониализм и интернационализм
По итогам своей китайской командировки Третьяков написал пьесу «Рычи, Китай!» (1926), документальную биографию китайского студента «Дэн Ши-хуа» (1930) и книгу очерков «Чжунго» (1927). В «Чжунго» Третьяков ставит перед собой амбициозную задачу: изобразить Китай не как экзотическую страну «утонченных пыток», «фарфоровых болванчиков» и «опиекурильных притонов», а как «400-миллионный народ», который пробуждается ото сна и готовится к борьбе с эксплуататорами. Хоффман и Штретлинг характеризуют подход Третьякова как попытку «постколониального письма» советского авангарда, но оговариваются, что она обернулась «литературн[ым] неоколониализм[ом]... [воспроизводящим] прежние иерархии и прежнее насилие».
В очерках о Китае Третьяков говорит об историческом отставании страны, словно бы застрявшей в Средневековье. Чтобы создать эффект «путешествия во времени» автор подчеркивает преобладание ручного труда («запах самого примитивного, отупелого, звериного физического труда висит над пекинской улицей») и проецирует китайские реалии на российское прошлое («в торговой части улицы идут рядами, как и у нас в старое время»).
Но марксист Третьяков знает, что ход истории неумолим. Под ударами капитала рушится «старый» мир, и Китай начинает меняться: «Иностранцы-банкиры разоряют степенного китайского менялу. Универсальные магазины подрывают работу крупного лавочника. <...> Уже дети уезжают в приморские города и учатся там в университетах. <...> Эти дети вырастут, станут инженерами, адвокатами, будут жить в европейских домах, наденут на себя европейское платье, будут иронически поглядывать на старые обычаи своей страны». Третьяков не сомневается, что Китай в конечном счете пойдет по европейскому пути, но выделяет два варианта модернизации (сам он не использует это понятие): поверхностное усвоение европейского образа привычек при сохранении прежних традиций и подлинное переустройство жизни, возможное только революционным путем. «Мало европеизировать быт — надо революционизировать само нутро человечье».
Схожий мотив мы видим и в очерках Третьякова о Сванетии (область на северо-западе Грузии), опубликованных в 1928 году: «Если приезжаешь в Сванетию, кажется, что отправился не за двести километров от железной дороги, а за 600–700 лет от нашего времени». Символом «старой» Сванетии выступают башни, в которых прячутся сваны, когда им угрожает кровная месть. Но регион преображается благодаря модернизационным усилиям советской власти. Саперы устраивают взрывы в скалах, расширяя горные тропы, и одновременно с этим подрывают башню, принадлежащую древнему сванскому роду: «В глушь башенного средневековья лезут советские веселые дни».
Но даже несмотря на то, что очерки Третьякова можно рассматривать как форму «геополитического освоения» территорий, они выполняют и другую функцию — размечают транснациональное пространство, в котором происходит взаимодействие левых активистов, художников и интеллектуалов. (Этому пространству посвящено коллективное исследование «Comintern Aesthetics», о котором я недавно писал). Катерина Кларк в книге «Москва, четвертый Рим» относит Третьякова к числу «космполитических патриотов» — советских интеллектуалов, выступавших в 1930-е годы посредниками в культурном взаимодействии СССР с окружающим миром, прежде всего с Западной Европой и Америкой.
В 1930-е годы Третьяков был редактором журнала «Интернациональная литература» — важнейшего органа антифашистской печати, выходившего сразу на четырех европейских языках. В качестве заместителя председателя Иностранной комиссии Союза писателей он сопровождал иностранных писателей, посещавших СССР. О том, что Третьяков был не просто литературным функционером, но именно посредником, свидетельствует эпизод, о котором пишут в своей статье Татьяна Хофман, Денис Иоффе и Ханс Гюнтер. Третьяков познакомил «Брехта с Мэй Ланьфаном, знаменитым китайским актером и мастером женских ролей, который гастролировал в Москве в середине тридцатых годов. В заметках Брехта о китайском актерском искусстве, возникших еще во время его пребывания в Советском Союзе, впервые заходит речь об эффекте отчуждения [курсив оригинала]».
Рецензируемый сборник завершается очерками Третьякова, написанными после поездки в Чехословакию в составе писательской делегации в 1935 году. Рассказывая о чехословацких сюрреалистах, Третьяков порицает литераторов за интерес к зарубежным новинкам вроде учения Фрейда и противопоставляет интернационализм их космополитизму: «Ведь интернационализм строится на национальном. В космополитизме интернационализма нет». Как мне кажется, Третьяков хорошо формулирует суть специфического советского интернационализма конца 1920–1930-х годов, в котором убежденность в превосходстве социалистического проекта «отдельно взятой страны» соседствовала с установкой на расширение культурных горизонтов.
Очерки о Чехословакии были изданы отдельной книгой в 1937 году. Вскоре после этого Третьяков был арестован и расстрелян по обвинению в шпионаже. Гибель Третьякова и многих других людей знаменовала собой постепенный закат довоенного советского интернационализма, который в 1939 году окончательно добил пакт Молотова — Риббентропа. Эпоха путешествий подошла к концу.