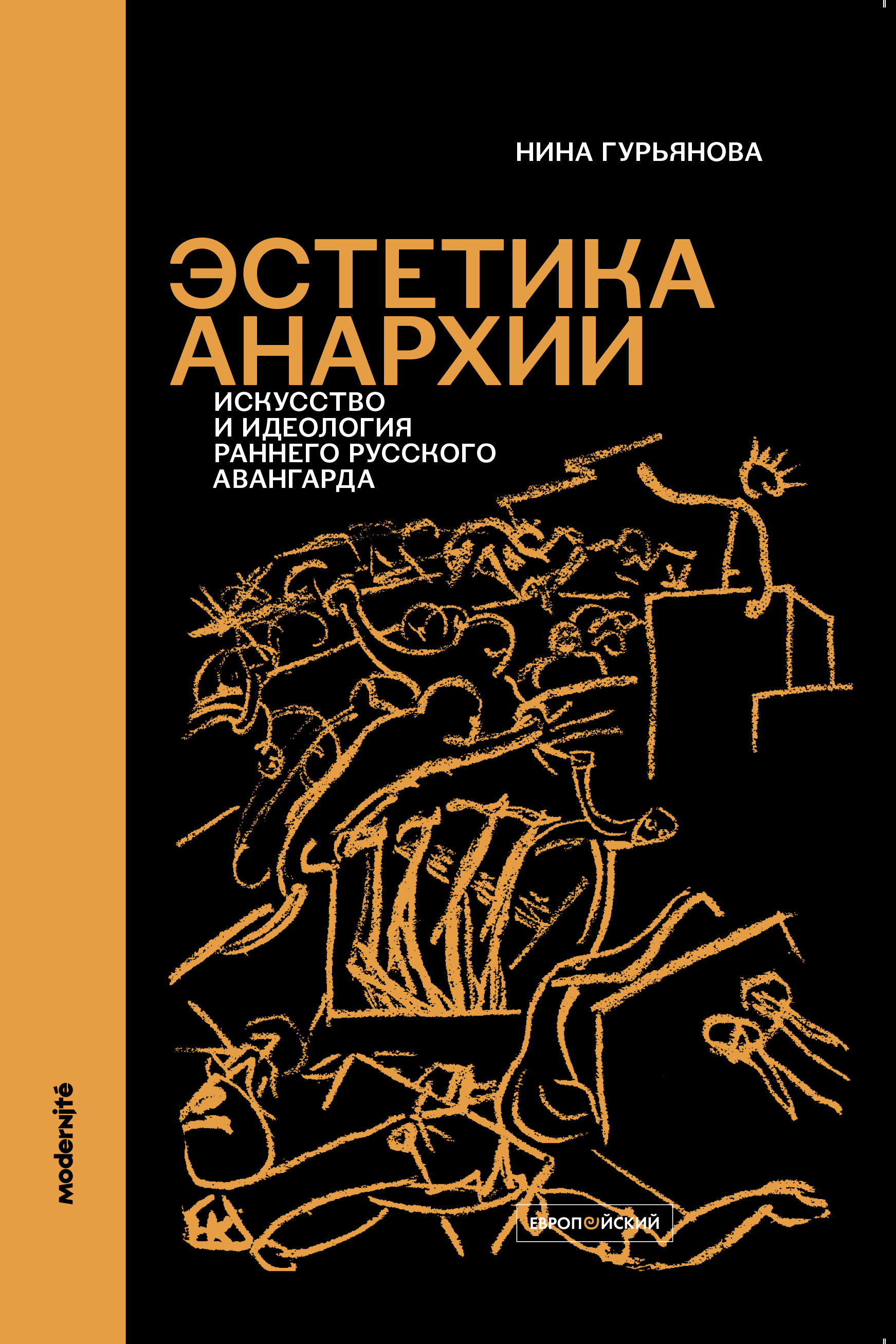Книги вместо бомб
Об исследовании Нины Гурьяновой «Эстетика анархии. Искусство и идеология раннего русского авангарда»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Нина Гурьянова. Эстетика анархии. Искусство и идеология раннего русского авангарда. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025. Перевод с английского А. Рудаковой. Содержание. Фрагмент
|
В феврале 1914 года лингвист Роман Якобсон сетовал в письме своему другу Алексею Крученых, что московская публика отстает от новинок литературного авангарда, ничего не зная о существовании новых книг идеолога «заумной поэзии». Когда же Якобсон указал на сей прискорбный факт приказчику книжного магазина, попросив позаметнее выставить книги Крученых в окне, тот, пребывая, как видно, не в восторге от футуристической словесности, ответил: «И слава Богу, что не знают».
Разумеется, Алексей Крученых, сколько бы пощечин общественному вкусу этот человек ни отвешивал, хотел, чтобы его произведения читали, и как любой деятель авангарда должен был выбирать средства для работы с вниманием публики. Согласно искусствоведке Нине Гурьяновой, совокупность этих средств можно свести к двум художественным стратегиям: провокации (той самой пресловутой «почещине», побуждающей публику к ответному действию с заранее непрогнозируемым автором результатом) и манипуляции (продуманному воздействию на чужое сознание с целью подтолкнуть его в определенном направлении). В свою очередь, через сложную историю взаимодействия двух этих стратегий, которые в разное время зачастую применялись одним и тем же художником или группой, возможно рассказать историю русского авангарда начала ХХ века; причем, историю не только его эстетических, но и политических устремлений.
Почти четверть века назад Гурьянова выпустила в издательстве «Гилея» первую монографию о художнице Ольге Розановой, создававшей бок о бок с Крученых головокружительную эстетику футуристической книги. Новое исследование куда шире по охвату (хотя и персонально Розановой на его страницах найдется предостаточно места), а ключевой его тезис состоит в том, что так называемый ранний русский авангард, хронологически определяемый рамками 1910–1918 годов, представляет собой не прелюдию к конструктивистским экспериментам 1920-х (или даже, упаси бог, социалистическому реализму), но самостоятельное культурное явление, в значительной мере служившее эстетическому выражению анархистских идей.
Тезис этот едва ли удивит читателя, ведь за последние годы на русском языке уже появилось несколько заметных книг, посвященных кровному родству между русским авангардом и анархизмом. Так, ранее мы уже писали о (заметно менее удачной) книге Ольге Бурениной-Петровой «Анархизм и искусство авангарда», а сравнительно недавно издательство «Гараж» порадовало любознательных читателей исследованием Анны Бражкиной «Авангард и „Анархия“» об экспериментах 1918 года в области самоуправляемой культуры. Как бы то ни было, обширный материал, связанный с этой темой, еще явно ждет своих исследователей, а Гурьяновой к тому же удалось отыскать не самый очевидный ракурс для его рассмотрения, о котором мы еще поговорим чуть позднее.
Книга ее состоит из четырех частей, первая из которых посвящена философским основаниям эстетики русского авангарда (Толстой, Бакунин, Достоевский, Ницше, сложные отношения с итальянским футуризмом), вторая — его артистическим практикам (футуристическая книга, постановка «Победы над Солнцем» и менее известные эксперименты в области театра, интерес к пародии, игре и провокации), третья — социальной позиции (от восприятия Первой мировой войны к чистому искусству супрематизма), четвертая — политическому позиционированию в условиях победившей революции. От концептуализации основных смыслов, стоявших за ранним русским авангардом, Гурьянова спускается на уровень непосредственной полемики об устройстве художественного и поэтического сообщества, раскрывая на своем пути немало увлекательных сюжетов.
Вот, например, сравнивая русский футуризм с его итальянским собратом, автор заостряет внимание на том, что место, которое в поэтике последователей Маринетти занимал автомобиль и прочие символы технического прогресса, у отечественных художников зачастую отдавалось посконным элементам крестьянского быта: корове, серпу, швейной машинке. Русский авангард демонстрировал в себе заметно более консервативную сущность, и годы его расцвета, согласно Гурьяновой, отнюдь не случайно совпали хронологически с «золотым веком старообрядчества», начавшимся с издания указа «Об укреплении начал веротерпимости» в 1905-м. Как и европейские модернисты, русские художники искали преодоления европоцентризма, но искали его не в пестрой культуре тропических островов, а в искусстве допетровской Руси, собирая лубок, изучая устную и письменную традицию «раскольников», применяя старообрядческие техники при создании вручную раскрашенных книг.
Отдельное место в книге Гурьяновой занимает Первая мировая война, темы воздействия которой на русский авангард исследователи, по ее словам, предпочитали избегать до конца ХХ столетия, как если бы чудовищные события тех лет имели значение разве что в качестве прелюдии к революции. Не разделяя подобной позиции, Гурьянова демонстрирует, как эхо воздушных баталий и окопных мясорубок отдавалось в творчестве Велимира Хлебникова и Крученых, Ольги Розановой и Натальи Гончаровой — а также как само восприятие войны менялось от ожидания преобразующей мир сакральной битвы к тошноте, усталости, разочарованию. Сам супрематизм, по Гурьяновой, являлся «таким же порождением Первой мировой войны, как и дадаистское антиэстетическое мировосприятие; и то и другое было обусловлено философским нигилизмом».
Однако главная тема книги — это все-таки присутствие в русском авангарде анархии. Анархия здесь, в первую очередь, понимается не столько в политическом, сколько в онтологическом ключе в соответствии с концепциями философа Райнера Шюрманна (к сожалению, фигура Хаким Бея в книге ни разу не всплывает). Этот голландско-американский философ, рефлексируя над онтологией Мартина Хайдеггера, говорил об анархии не в качестве порядка либо хаоса, но как о переходном состоянии между ними, моменте, когда краеугольные камни дают трещину и основополагающие смыслы общественного устройства сменяются на противоположные. Такая анархия может быть и моментом возвращения — например, к тем же допетровским началам русской культуры, отброшенным европоцентристской парадигмой.
Русские футуристы тоже метали бомбы, но бомбы свои они создавали из бумаги, красок и печатного слова, как сделана была книга Алексея Крученых с характерным названием «Взорваль», на обложке первого издания которой одинокий оратор швыряет нечто во взбесившуюся аудиторию. В начале ХХ века сравнение книги с бомбой, по примеру Ницше и Малларме, превратилось в модернистском культурном дискурсе в ключевую метафору, пишет Гурьянова.
Впрочем, и без анархии политической дело ни в коем случае не обойдется. Октябрьская революция 1917 года стала неминуемым водоразделом в судьбе деятелей русского авангарда, после которого одних, «анархистов духа» вроде Крученых и Ильи Зданевича, повлекло во временное убежище в Грузии, где, сохраняя политический нейтралитет, они продолжили формальные эксперименты в области искусства. Иные вслед за Маяковским и Бурлюком начали пытаться встроить себя в большевистский аппарат пропаганды в качестве агитаторов. Третьи — возможно, наиболее радикальные из всех, — к числу которых принадлежали Владимир Татлин, Казимир Малевич, Алексей Ган и Александр Родченко, нашли себя на страницах «Анархии», ежедневной газеты Московской федерации анархистских групп, просуществовавшей до разгрома большевиками противников государственности в 1918-м.
Люди эти не просто привносили анархические идеи в создаваемое ими искусство; они стремились организовать в соответствии с анархическими идеалами творческий процесс художественного сообщества. Весной 1917-го создается профессиональный союз художников-живописцев Москвы (СОЖИВ), который, согласно Гурьяновой, имел своей моделью не столько объединение деятелей искусства, каких Россия к тому времени уже знала предостаточно, сколько анархо-синдикалистский профсоюз. Наиболее левые деятели авангарда образовали внутри СОЖИВ «молодую» федерацию.
Пресловутая проблема отношений «книгопродавца и поэта», с которой мы начинали этот текст, затронув непродаваемые издания Крученых; проблема куда как более актуальная для многих деятелей авангарда, перебивавшихся в Петербурге или Москве случайными заработками, решалась в их представлении путем упразднения всех посредников между художником и обществом. В постреволюционном мире не останется нужды в спонсорах, галеристах, меценатах и прочих «кураторах», поскольку все искусство станет выставляться в народных музеях. Роль организатора выставок, свободных от цензуры государства, возьмет на себя профсоюз, а антидотом от установления диктатуры внутри самого профсоюза станет его организация на федеративных принципах из представителей разных художественных направлений.
В этот момент анархистская идеология многим казалась единственной приемлемой философской базой для построения новой модели бытования искусства в постреволюционном обществе, пишет Гурьянова, и еще даже весной 1918 года такая возможность выглядела вполне реальной.
«Одним из важнейших событий в истории русского авангарда» в подобной оптике становится съезд СОЖИВ летом 1918 года, на котором большинством голосов анархо-синдикалистский устав оказался отклонен, и радикально левая фракция в полном составе вышла из профсоюза. Модель художника как государственного служащего победила романтическую идею вольного артистического профсоюза — но за тем, какую из этих моделей выбирали люди, по Гурьяновой, стояли не только экономические интересы, но и логика самого их творчества. Те, чье искусство создавалось на принципах «провокации», оставались анархистами настолько долго, насколько это в наступивших реалиях было возможным. Тем же, кого интересовала «манипуляция», вполне логично было поставить свой талант на службу государству. Авторитарный перформанс в истории русского искусства победил эпатажный хэппенинг, а последствиями этой победы стали и все шедевры конструктивизма, и монтажные аттракционы Сергея Эйзенштейна; вот только у авангарда, пошедшего этой дорогой, по мысли Гурьяновой, своя история, которая не является продолжением уже рассказанной.
Вне зависимости от того, симпатизируете ли вы в данном противостоянии сторонникам провокационной или манипуляционной линии или вообще считаете такое противопоставление надуманным, а 1920-е — логическим продолжением 1910-х, на книгу Гурьяновой стоит обратить внимание всем, в чьем сердце откликаются идеи и образы русского авангарда. Это объемное и глубокое произведение позволяет читателю по-новому взглянуть на целый ряд хорошо знакомых фигур, подсвечивает ряд не вполне очевидных сюжетов из истории русского искусства и — что, может быть, самое важное — дает возможность прикоснуться ко временам, когда любые социальные трудности казались преодолимыми не без помощи силы искусства, а самые радикальные утопии — близкими к своему осуществлению.
Фото в начале материала: постановка «Победы над Солнцем», 1913 год