Кадавры с особенностями развития
Знакомство с лонг-листом премии «Национальный бестселлер»
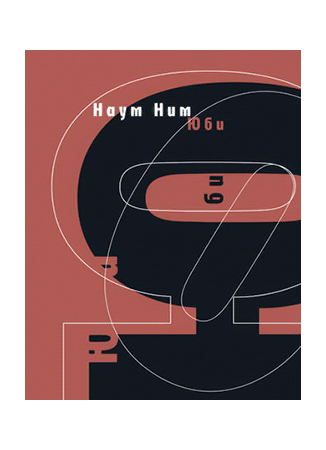 Наум Ним. Юби. М.: Время, 2018
Наум Ним. Юби. М.: Время, 2018
Начало романа может несколько смутить читателя: там ходит дурачок по лесу, буквально, и даже не ищет никого глупее себя. Поэтому я сразу выдам вам диспозицию, но постараюсь обойтись без спойлеров.
1986 год, интернат под Витебском. Дети с особенностями развития. Номинально особенности легочные, но в реальности — самые разные. Действующие лица: воспитанники Угуч и Недоделок, кочегар Недобиток, маскирующийся под физрука гэбист Недомерок и диссиденствующий учитель Йеф.
Советская власть уже перестала подавать признаки осмысленной жизни, люди постепенно понимают, что остались сами с собой наедине. При этом по инерции еще крутятся запущенные шестеренки. Интернат получает ассигнования, считается уникальным и в области, и в Союзе. Воспитанники придумывают себе легенды об отцах — секретных агентах — и организуют передвижной бордель для поселковых пацанов. Учитель читает запрещенную литературу. Гэбист хочет учителя посадить.
В этом сюжете цветут все глубинные водоросли советского общественного дискурса: бытовой антисемитизм, истребление всякой инаковости, готовность к сотрудничеству, кляузничество, дефицит и алкоголизм. Кочегары пьют чернила из гастронома, воспитанники сдают для сексуальных утех своих подруг за пятачок, гэбист внедряется в интернат и требует от всех полного содействия.
В этом мире каждому необходимо свое место. Кто-то должен стучать, кто-то обманывать, а кто-то изобличать. И, скажем, один из главных героев — могучий сложением, но недоразвитый умственно — воспитанник Угуч постоянно ищет свое укромное место в корнях лесных елей.
Физрук-гэбист Недомерок стремится уличить учителя Йефа в продаже Родины. Йеф — на самом деле Лев Ильич, который не выговаривает половину согласных — хитро и умело провозит себе из Москвы запрещенные книги и выставляется если не борцом с режимом, то, по крайней мере, таким отдельно стоящим фрондером. Лев Ильич, понятно, еврей — что делает его в глазах окружающих заведомо виновным во вменяемом. Все так между собой и переговариваются: это же жид, значит, точно Родиной торгует.
Тут важен сам конструкт — никто не представляет себе, что, собственно, такое продажа Родины. Но каждый уверен, что есть что продать, есть покупатель, а продавец — еврей.
Можно было бы сказать, что роман построен на очевидном конфликте тупого, замшелого, устаревшего и жестокого, которому противостоит нечто новое, просвещенное и неизбежное. Но это слишком просто. Роман «Юби» — так один из героев произносит «люби» — это книга о том, что советский человек является рамочной конструкцией, неспособной существовать без места, в которое он будет насильно вписан.
Вот что говорится об одном из воспитателей интерната — биологе по образованию: «... давняя армейская служба. Все самое лучшее и самое яркое у Василия Викторовича осталось там. Из его рассказов (практически без слов — на одних вздохах и матерных пробормотах) выходило, что тут, среди вольняшек, никогда уже ему не упиваться той водярой, теми бабами и дружбанами». Каждому нужно свое место, и каждый должен его знать. А мир советского заката — одна большая школа для дураков.

Михаил Трофименков. XX век представляет. Кадры и кадавры. М.: Флюид ФриФлай, 2018
Эта весьма гармоничная книга вызывает крайне противоречивую внутреннюю реакцию читателя. Ее невозможно закрыть — бесконечный насыщенный поток интереснейшей информации, привязанной к истории, к фактам, к контексту и кинематографу,
затягивает. Но в итоге поток информации начинает восприниматься как поток сознания.
Одна глава — одно десятилетие двадцатого века. Как снимали первые псевдодокументальные батальные сцены? Оказывается, никак. В ванной, подкрашивая модельки и ландшафт. А эти кадры потом становились кадаврами, всемирно известными фотографиями, которые покупали с эксклюзивными правами или печатали миллионными тиражами.
Как растаскивали по полю боя убитых. Не тащили с поля боя, а именно растаскивали после битвы по нему, чтобы кадр получился выразительнее.
Как дело Дрейфуса поссорило всю французскую аристократию, как снимался «Метрополис» и что для мировой культуры значила гибель «Титаника»? Какие наркотики перестали употреблять в начале 70-х, почему и как это повлияло на кинематограф? Почему свастика стала модной, кто первым принимал у себя Муссолини и как по его приглашению читал в Италии лекции Махатма Ганди?
Книгу Трофименкова пронизывает третий закон термодинамики, ставший известным мемом — энтропия нарастает. Его еще можно сформулировать как «мы все умрем». Умрем, непременно. Но вот от чего?
Если верить Михаилу Трофименкову, то от того, как разболталась наша планета в ХХ веке — как систему вселенского равновесия понесло в страшную и неостановимую качку, интенсивность которой только нарастает. Но тем интересней за ней наблюдать.
Если хотите с легкостью поддержать любой разговор в самой взыскательной компании, заучите книгу Трофименкова наизусть.
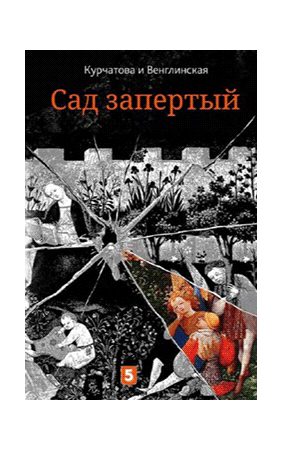 Ксения Венглинская, Наталия Курчатова. Сад запертый. М.: Пятый Рим, 2018
Ксения Венглинская, Наталия Курчатова. Сад запертый. М.: Пятый Рим, 2018
Сад запертый (это из библейской «Песни песней») — ментальное сальто, когда и сестра — невеста, и источник есть, но он недоступен, а, стало быть, жажда будет мучить вечно. Сад, в котором пребывают ушедшие от нас близкие. Мы видим их, но не можем с ними взаимодействовать — они в запертом саду.
Роман «Сад запертый» посвящен памяти ушедших друзей — книга делает их сущими, видимыми и почти осязаемыми, продлевает их дни, но проникнуть к ним все-таки нельзя. Сад заперт. Этот роман — продолжение десятилетней давности книги «Лето по Даниилу Андреевичу», где главный герой представал одновременно в трех ипостасях и был смыслообразующим элементом петербургской жизни то ли конца девяностых, то ли начала двухтысячных с отсылками к белогвардейцам, черносотенцам и прочей ушедшей истории.
Вот и в «Саду запертом» в одном предложении соседствуют махорка, дреды, староанглийская речь, которой студенты филфака выщелкиваются друг перед другом. Сам Даниил Андреевич появляется в этой части обмороженным и неопознанным ампутантом, которого в больнице находит сбежавшая с археологических раскопок под Петербургом «рыжая дылда» Алька и, конечно, посвящает ему жизнь.
«Алька начала мыть его, стараясь избежать прикосновения кожи к коже. Только через влажное полотенце. Всё в нем заставляло ее вибрировать, как задетый нечаянно камертон. И неровно обстриженные завитки волос, прилипшие к шее в самом трогательном ее месте у основания черепа, и родинка под левой лопаткой, тяжелый запах несвежего пота, смешавшийся с запахом стрептоцида».
Такая трудная неизбежная любовь, представленная в виде метатекста поколения, где есть проблемы телефонного подключения к интернету по карточкам и описание весны словами из песни Дельфина.
Иногда повествование уходит в неровный поток, где село Нежное спорит с Лебяжьим, Данька, он же Даниил Андреевич, путается в Вадимом, а Алька — с Лерой. Все они живут в этом запертом саду своих переплетенных биографий, а мы наблюдаем за ними через авторское стекло текста, которое иногда показывает нам довольно серьезные вершины мастерства: «Как бы то ни было, после ампутации жизненные силы
пациента начали прибывать, будто питание отсутствующих конечностей перекинули на центральную подстанцию».
Это даже не здоровый цинизм, это просто оптика, право на которую имеют только близкие. В этом романе авторы очень близки героям — до степени крайней нежности, но не слияния.