Экстремальный стендап
Спорная книга: «Как-то лошадь входит в бар» Давида Гроссмана
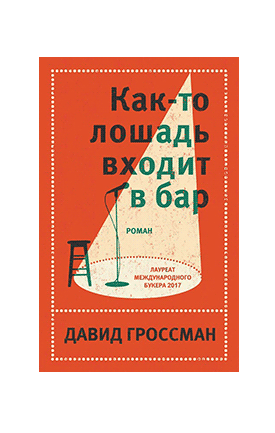 Давид Гроссман. Как-то лошадь входит в бар. М.: Эксмо, 2019. Перевод с иврита Виктора Радуцкого
Давид Гроссман. Как-то лошадь входит в бар. М.: Эксмо, 2019. Перевод с иврита Виктора Радуцкого
«От великого до смешного один шаг» — штамп, избитый до синевы. Где-то в зазоре между великим и смешным обосновался со своим романом израильский писатель Давид Гроссман. С одной стороны, сюжет книги «Как-то лошадь входит в бар» от начала до конца построен вокруг двухчасового выступления-стендапа комика Дова Гринштейна, исполнителя неполиткорректных, оскорбительных, а порой и откровенно похабных скетчей. С другой стороны, этот роман принес автору Международную Букеровскую премию в 2017 — не говоря уж о том, что Гроссман входит в число главных израильских классиков, претендентов на Нобелевку и, как пишут знающие люди, ничем не уступает покойному Амосу Озу.
Наши критики спорят преимущественно о субъективном — например, о том, производит ли камерная история Гроссмана впечатление толстенного эпоса или, наоборот, читается влет, как захватывающий триллер, — говорят об эмоциональной напряженности текста и о степени искренности главного героя. Реже речь заходит о языке и стиле букеровского лауреата или о точности и изобретательности перевода. А вот примеров шуток главного героя, даже самых невинных, никто не приводит — хотя, казалось бы, более выигрышные цитаты трудно подобрать.
Владислав Толстов в обзоре «Иностранное: несколько хороших переводных романов, только что изданных» («БайкалИНФОРМ») отмечает непривычный темп повествования и то, как отчаяние героя постепенно пробивается сквозь стену, выстроенную из похабных анекдотов и сальных шуточек:
«Все действие романа умещается в два часа. Вышедший в тираж комик-стендапер Дов Гринштейн устраивает шоу в одном маленьком клубе города Нетании, откуда он сам родом. Шоу начинается с шуточек ниже пояса, потом шуточки становятся все злее, темы все циничнее, публика еще не может понять, что Гринштейн решил свести счеты со всеми — с нечестными коллегами, с женой, с похабными авторами скетчей, со своими обидчиками и, уж само собой, с публикой. Он начинает шутить на темы, о которых нормальный житель Израиля даже в страшном сне не решится пошутить — о Холокосте, например. Дов — не просто профессиональный зубоскал и похабник, он еще и очень несчастный человек, и шутит он не потому, что ему весело, а потому что он в отчаянии. И это отчаяние постепенно пробивается, превращая юмористический скетч в исповедь, и все эти шуточки, как выясняется, не способны прикрыть кровоточащую реальность. Хороший роман, со своим непривычным темпом повествования (когда главный герой, он же рассказчик, постепенно впадает во фрустрацию и только в конце позволяет вырваться истерике наружу)».
Наталья Кочеткова в обзоре «Мои борьба, тюрьма и чертовщина» («Лента.ру») размышляет, почему трехсотстраничная книга кажется читателю гораздо более длинной:
«Небольшая книжечка читается и воспринимается как большой тяжелый том. Не в последнюю очередь в результате эмоционального воздействия на читателя. По форме „Как-то лошадь входит в бар” — расшифровка одного вечера стендапера по имени Довале. <...> В своем выступлении он балансирует между юмором, сарказмом и трагической откровенностью. Один из зрителей в зале, старый знакомый артиста, следя за выступлением, гадает: то ли маска намертво приросла к нему, и он уже не может отделить жизнь от сцены, себя от своего амплуа, то ли наоборот: никакой маски давно уже нет, а все, что говорит этот человек, вызывая смех и жалость у публики, — он говорит искренне. Тогда почему же он так юродствует?»
Арина Буковская в обзоре «Три самых ярких переводных романа апреля» («Профиль»), напротив, утверждает, что роман Гроссмана похож на хороший бодрый триллер:
«Это довольно короткий, стремительный роман огромной эмоциональной силы о стареющем еврейском комике, который устроил зрителям вместо обычного выступления экстремальный стендап. <...>
Из привычных составляющих большого медленного романа — любви и вины, необходимости выбора, жестокости или равнодушия окружающих — Давид Гроссман соорудил стремительный захватывающий триллер. Причем без таких элементов триллера, как реальная опасность или хоть какой-нибудь экшн. Здесь герой всего лишь ходит кругами по сцене и вспоминает детство, а самый большой риск, которому он подвергается, — получить пустой бутылкой по башке от взбешенного зрителя (спойлер: не получит). Но когда барыня публика требует шуток, а вместо этого „получает Судный день”, когда Довале, грустный старый клоун, лихорадочно вставляет в свою историю анекдоты, лишь бы ее дослушали, когда отмечает каждого ушедшего зрителя линией на доске, в такие моменты благодаря мастерству Гроссмана текст просто звенит от напряжения. И, как часто бывает в триллерах, до финала здесь добираются немногие. Но тот, кто выдержит экстремальный стендап до конца, выйдет из него слегка другим человеком».
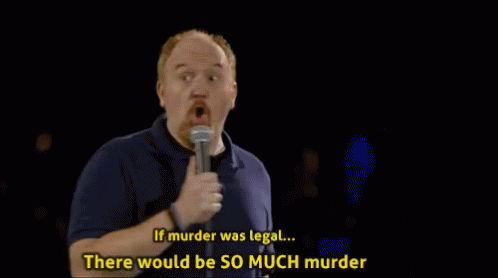
Галина Юзефович в рецензии «На русском выходит „Как-то лошадь входит в бар” Давида Гроссмана, одного из важнейших израильских писателей» («Медуза»*СМИ, признанное в России иностранным агентом и нежелательной организацией) пытается разобраться, почему «живой классик», безразличный к жанру стендапа, решил сделать героем своего романа именно комика:
«В авторском послесловии к „Как-то лошадь входит в бар” Гроссман пишет, что совершенно равнодушен к жанру стендапа. В это легко поверить: примерно к двадцатой странице читателю становится понятно, что на место стендапа можно без труда подставить любой вид искусства — от поэзии до кинематографа. Другое дело, что именно комик — такой уязвимый и беззащитный, максимально открытый для зрительского недовольства или любви, живущий и умирающий ради чужого смеха — служит идеальной метафорой художника как такового. Выворачивая своего героя наизнанку на глазах у почтеннейшей публики, вытаскивая на поверхность все его беды и страдания, Гроссман буквально реализует известное высказывание Эрнеста Хемингуэя: „Вообще-то писать просто. Ты садишься перед пишущей машинкой и начинаешь истекать кровью”. Никакого другого способа создать нечто, способное довести зрителя, слушателя или читателя до катарсиса, если верить Гроссману, не существует: настоящее искусство творится только на разрыв аорты.
Однако к этому пафосному и, в общем, довольно тривиальному выводу Давид Гроссман ведет своего читателя путем, с одной стороны, прозаическим, а с другой — неочевидным: при всей своей неординарности биография Довеле Джи вовсе не таит в себе романтических трагедий. Топливом для его огненного монолога становятся события по большей части обыденные или, во всяком случае, вполне представимые. Собственно, именно в этом и состоит уникальность романа „Как-то лошадь входит в бар”: осязаемо и зримо Гроссман показывает, что высокое искусство, способное по-настоящему преображать человеческую душу, вовсе не обязательно растет из великих драм — в качестве питательной среды для него отлично годится мусор будничной жизни, неврозы и потери, разрушенные надежды, обманутые ожидания и мелочная, почти не заметная чужая жестокость».
Полина Бояркина в рецензии «Добрый вечер, Нетания!» («Прочтение») рассуждает о месте, которое занимают второстепенные герои, гости и зрители представления Дова Гринштейна:
«Главное достоинство этой книги — ее композиция. В романе несколько сюжетных пластов. Один из них и есть представление комика Дова Гринштейна под псевдонимом Довале Джи, разворачивающееся в реальном времени. Второй — проступающая за шутливым фасадом история мальчика с непростой судьбой, и третий — настоящий роад-муви, где герои движутся из точки А в точку В, не зная, что ждет их в конце пути. Все они находятся в столь тесном взаимодействии и взаимопроникновении, что в какой-то момент зрители оказываются на месте сидящего в машине подростка Дова, а сам он — на месте водителя, которому в голову пришла безумная мысль отвлечь страдающего юношу анекдотами. А юмор и трагедия оказываются неизбежно присущими жизни сторонами одной медали. <...>
Довале — творец, он творит историю своей жизни, которую, как ему показалось в одну трагическую минуту в прошлом, мог изменить. Лишь позднее он поймет, насколько безумной была даже сама эта мысль — от этого он навсегда остается отравленным однажды закравшейся в его душу тьмой. Он приглашает на свое представление людей, с которыми был как-то связан в прошлом, — будто бы, рассказанные, их истории могут стать альтернативой уже единожды сложившемуся сюжету. Мы все хотим, чтобы нас любили, мы готовы к тому, чтобы нас ненавидели, пусть это и трудно, но более всего нас страшит безразличие. Однажды испытавший его на себе Довале на публику пересоздает свою жизнь, в том числе для того, чтобы ее версия перестала быть официальной, до блеска отшлифованной — такой, что может вызывать лишь равнодушие, но не подлинные чувства. <...>
Читатель, который оказывается у Гроссмана в позиции зрителя, равнодушен не останется точно. Он будет, вероятно, некоторое время бороться с желанием покинуть зал — но, приняв-таки решение остаться до конца, будет вознагражден».
 Давид Гроссман
Давид Гроссман
Михаил Визель в традиционном обзоре «5 книг недели. Выбор шеф-редактора» («Год литературы») подробнее исследует язык и стиль Гроссмана — а заодно и язык перевода:
«Отдельного упоминания заслуживает язык книги. Дов говорит нарочито уличным языком, уснащая ивритскую речь жаргонными словечками из арабского, идиша, английского, даже искаженного русского (догадайся, например, что падлаóт — это множественное число от падлаá, пришедшее через идиш из обычной русской „падлы”), и переводчик честно распутывает все эти выкрутасы. Но порою кажется, что слишком честно. Например, пишет в сноске: „Сатхéн — возглас одобрения: «Почет и уважение!», «Молодец!» (сленг, арабск.). Часто употребляется в разговорной речи”. Любой носитель современного русского языка не задумываясь скажет: „Респект и уважуха!” Но до живущего в Израиле переводчика Виктора Радуцкого этот расхожий полуанглицизм, вполне соответствующий духу книги, похоже, еще не добрался».
И, наконец, Лиза Новикова в статье «Еврейский юмор поняли в Британии» («КоммерсантЪ») внезапно обнаруживает в романе политический подтекст:
«Анекдоты и каламбуры постепенно уступают место трагической исповеди. Чем откровеннее ведет себя герой, тем быстрее пустеет зал. Никому не интересно увидеть реальную боль за брутальными шутками, особенно если речь идет о подростковых переживаниях или об истории формирования взглядов политического оппонента. Однако главный слушатель, судья, было забывший о давнем друге, не может сдвинуться с места. К общей тайне, связывающей героев, оказывается приковано и читательское внимание.
Для самого автора, писателя и общественно-политического деятеля, известного и публицистическими выступлениями, в которых критика властей сочетается с искренней болью за Израиль, описания страданий персонажа переплетаются с размышлениями об истории страны и с собственным травматическим опытом: он говорит о людях, „запертых не в своей жизни”. Но та жизнь, которой пренебрегли или которой лишили, все же напоминает о себе. „Второй шанс” есть и у каждого „комика”, и у любого государства...»