Чудовища «Бесов»
О книге Льюиса Бэгби про предисловия Достоевского
Льюис Бэгби. Первые слова: О предисловиях Ф. М. Достоевского. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. Перевод с английского Е. А. Цыпина
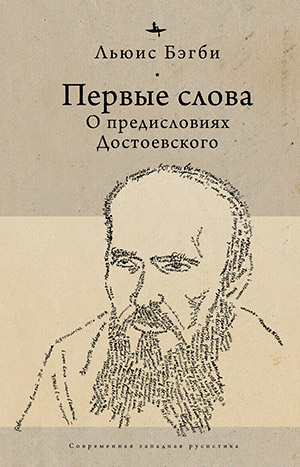 Мало чья судьба в русской литературе сложилась так удачно и одновременно несчастливо, как у Достоевского. С одной стороны, его место в пантеоне классиков непререкаемо хотя бы потому, что он быстро стал одним из главных наших авторов «на экспорт»: кто бы что ни говорил, а русским людям всегда приятно, когда иностранцы что-то особенно выделяют в нашей культуре. С другой стороны, мало кто из русских классиков настолько плохо прочитан у себя на родине. Со школы нас вовлекают в ложное противостояние между Достоевским и Толстым, учат тому, что Федор Михайлович на самом деле сочинял детективы, был инфернальным неврастеником, дремучим консерватором и так далее и тому подобное.
Мало чья судьба в русской литературе сложилась так удачно и одновременно несчастливо, как у Достоевского. С одной стороны, его место в пантеоне классиков непререкаемо хотя бы потому, что он быстро стал одним из главных наших авторов «на экспорт»: кто бы что ни говорил, а русским людям всегда приятно, когда иностранцы что-то особенно выделяют в нашей культуре. С другой стороны, мало кто из русских классиков настолько плохо прочитан у себя на родине. Со школы нас вовлекают в ложное противостояние между Достоевским и Толстым, учат тому, что Федор Михайлович на самом деле сочинял детективы, был инфернальным неврастеником, дремучим консерватором и так далее и тому подобное.
Если не все, то по крайней мере многие из этих стереотипов, не дающих толком прочитать Достоевского, ставятся под вопрос книгой Льюиса Бэгби — американского слависта, специализирующегося на русской литературе XIX века. И сразу подчеркнем: несмотря на узость заявленной темы, больше тянущей на диссертацию, чем на очерк для широкой публики, перед нами не только серьезный труд ученого, но и увлекательное свидетельство об опыте предельно вовлеченного чтения. На второй ипостаси книги Бэгби мы и хотим сосредоточиться.
Книгу о предисловиях открывает, разумеется, предисловие, в котором исследователь кратко объясняет, от чьих теоретических наработок будет отталкиваться. Здесь мы, во-первых, неизбежно встречаем Бахтина, работы которого о Достоевском, думаем, хорошо известны нашим читателям. Вторым важным для Бэгби теоретиком оказывается Жерар Женетт — структуралист, примыкавший к группе «Социализм или варварство». Нельзя сказать, что в России он на слуху, но Бэгби, к счастью, вполне доступно пересказывает его подход к типологии предисловий, универсальность которой, споткнувшись о Достоевского, наводит на увлекательные умозаключения.
Основной же текст книги открывается увлекательным рассказом об истории и функциях предисловий в русской литературе. Для своего экскурса профессор Бэгби берет неожиданную точку отсчета — плутовской роман Василия Нарежного «Российский Жилблаз» (1814). Сатиру украинского писателя, мгновенно запрещенную цензурой и обратно разрешенную только при Сталине (какая горькая ирония), предваряет краткое и довольно саркастическое вступление. Его функция носит характер одновременно пародийный и политический — писатель с окраины империи заявляет о своих правах на создание русского (равно всероссийского) аналога французского бестселлера Алена Рене Лесажа.
Годы спустя своего «Жиля Блаза» под названием «Иван Выжигин» напишет печально известный Булгарин. Бэгби указывает на крайне занимательное обстоятельство: взяв тот же самый первоисточник, поляк Булгарин в своем предисловии выполняет совершенно другую задачу, нежели украинец Нарежный. А именно — выслуживается перед власть имущими в надежде повысить свое социальное положение, а заодно заручиться их авторитетом и поддержкой перед лицом критиков, которые, несмотря на более чем хорошие продажи, разнесли книгу в пух и прах.
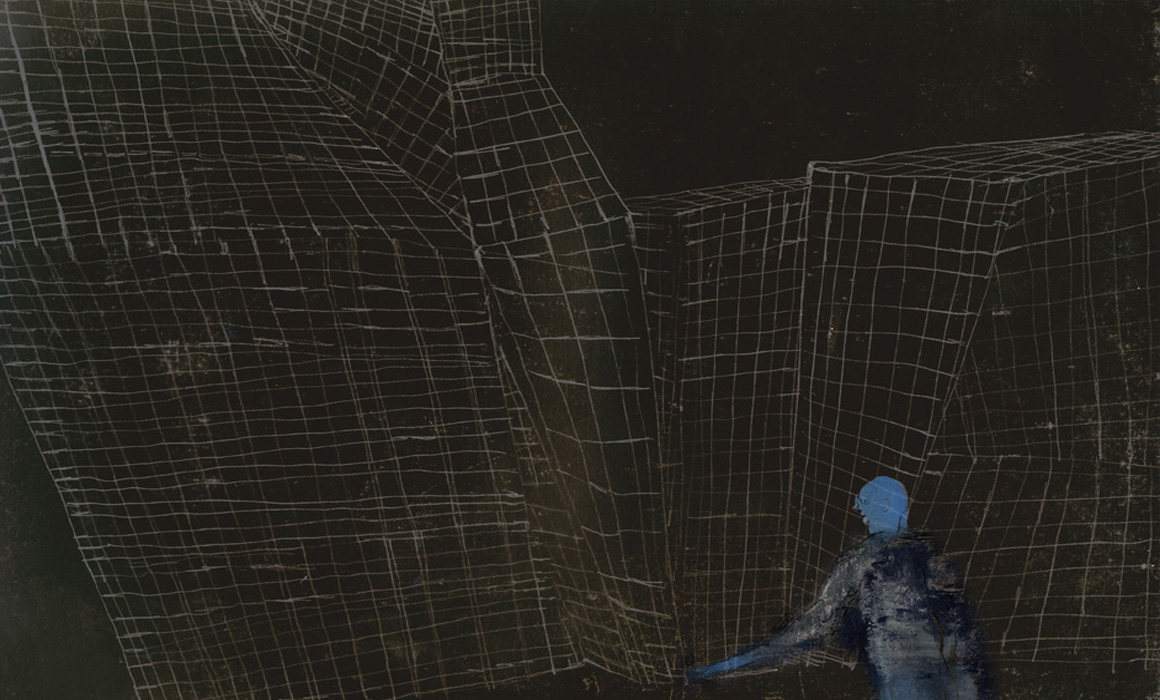
Фото: JORGE GONZÁLEZ
Как видим из этого прекрасного примера, наше восприятие текста, считывание его смыслов, может кардинально меняться в зависимости всего от нескольких абзацев, следующих перед ним. Нарежный обратил свою книгу к читателям и вписал свое имя в историю украинской национальной литературы, Булгарин же, увы, так и остался досадным курьезом на полях российской словесности.
Не менее увлекательные и напрашивающиеся на отдельную книгу замечания Бэгби делает про роль предисловий и вступительных слов у Лермонтова, Пушкина, Чернышевского. Внимательное прочтение этих артефактов нужны автору для одного — обозначив традицию написания предисловий, перейти к Достоевскому и подчеркнуть абсолютную уникальность его вступительных слов на фоне его предшественников и современников.
Здесь мы встречаемся с первым стереотипом, которому учат в школах, а затем закрепляют в вузах. Принято думать, что Достоевский до каторги и Достоевский после возвращения из ссылки — это два совершенно разных человека. До гражданской казни Федор Михайлович, как всем прекрасно известно, был сторонником утопического социализма, за что и понес более чем суровую кару. Десять лет спустя в Петербург вернулся якобы Достоевский-консерватор, убежденный охранитель, презирающий все новые веяния. Отчасти это действительно так: по замечанию Бэгби, для писателя безусловно было шоком узнать как минимум о теории Дарвина, которую сгоряча поспешили применить не только в биологии, но и в экономике и социологии. Вполне понятно, что его взгляды после долгих лет в вакууме и резкого возврата к реальности, пошатнулись. Но главное, как нам кажется, остается обычно за скобками. А именно: Достоевский, несмотря ни на что, остался нонконформистом.
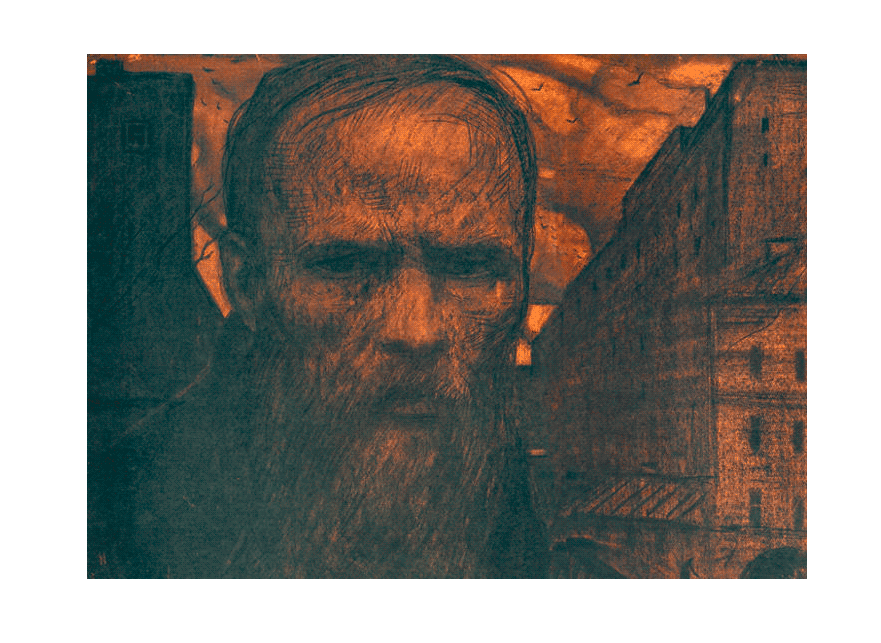 Понять этот факт помогает обстоятельство, на которое указывает Бэгби и которое касается негласного книжного этикета. Во времена, когда Достоевский был еще совсем молодым писателем, только начинавшим публиковаться, считалось само собой разумеющимся правилом писать к своим трудам вступительное слово. Тем более если автор совсем не известен читателю. Достоевский пренебрегает этим комильфо и в «Бедных людях», принесших ему первую славу, и во всех последующих текстах раннего периода, будто швыряя их в лицо публике. После каторги и ссылки Достоевский, напротив, едва ли не каждое свое значимое произведение сопровождает вступительным словом.
Понять этот факт помогает обстоятельство, на которое указывает Бэгби и которое касается негласного книжного этикета. Во времена, когда Достоевский был еще совсем молодым писателем, только начинавшим публиковаться, считалось само собой разумеющимся правилом писать к своим трудам вступительное слово. Тем более если автор совсем не известен читателю. Достоевский пренебрегает этим комильфо и в «Бедных людях», принесших ему первую славу, и во всех последующих текстах раннего периода, будто швыряя их в лицо публике. После каторги и ссылки Достоевский, напротив, едва ли не каждое свое значимое произведение сопровождает вступительным словом.
Дело в том, что за прошедшее десятилетие резко изменилось отношение к изящной словесности, писательство окончательно оформилось в России как профессия. Авторы романов начали позволять себе писать с позиции всеведущего авторитета, «И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой не использовали их (предисловия) ни в каком виде». Очевидно, это указывает на то, что для Достоевского его многочисленные и разнообразные вступления были демонстративным жестом, бросавшим вызов культурному мейнстриму в буквальном смысле слова с первых страниц. Надо признать, более чем смелое решение для литератора, которого многие считали исписавшимся еще до ссылки.
Обращая внимания на этот квазилитературный контекст, не менее очевидным становится и особое значение, которое Достоевский придавал этим маргинальным для своего времени артефактам письма. И тем более удивительно, что все это время о них, по замечанию Бэгби, «говорили как о чем-то случайном, а в худшем считали бесполезным словоблудием».
В чем же уникальность первых слов в повестях, романах и публицистике Достоевского и что они дают для понимания его произведений? Именно здесь будто бы начинает сбоить в целом стройная теория Жерара Женетта. Если максимально упростить типологию, предложенную французским структуралистом, то можно выделить три вида предисловий: авторское (написанное от лица автора или его «второго я»), аллографическое (написанное от вымышленного лица) и акториальное (написанное от имени персонажа произведения). У каждого из этих типов есть три подтипа. Это предисловия аутентичные (написанные непосредственно от реально существующего автора), фикциональные (от лица вымышленного рассказчика) и апокрифические (написанные от вымышленного лица, которому ошибочно приписывается не его имя). Проблема этой немного запутанной структуры применительно к Достоевскому в том, что у него эти типы и подтипы могут перемешиваться даже не в пределах одного вступления, а в границах одного-единственного абзаца или даже предложения. Бэгби убедительно иллюстрирует эту свою мысль, препарируя начало «Записок из подполья»:
«И автор записок и самые „Записки”, разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. В этом отрывке, озаглавленном „Подполье”, это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде».
Руководствуясь типологией Женетта Бэгби относит предисловие «Записок из подполья» одновременно к аутентичным и апокрифическим. Краткое вступление к этому роману, напомним, подписано «Федор Достоевский». Однако Бэгби отказывается признавать полную аутентичность такой подписи. Дотошное вчитывание приводит его к тому, что в этой ремарке слышно минимум три разных голоса: редактора с его нейтральным стилем, радикала (стиль настойчивый: «не только могут, но даже должны существовать») и пародиста с его двусмысленными интонациями («И автор записок и самые „Записки”, разумеется, вымышлены»; «еще доживающего»; «как бы»).

Фото: JORGE GONZÁLEZ
Если принять этот факт, подпись «Федор Достоевский» и правда становится недействительной, а его подчеркнутое авторство оборачивается изощренной литературной игрой. Это идет вразрез с одним убеждением, бытующим и среди тех, кто прекрасно знает и любит Федора Михайловича. Не будем далеко ходить за примером и процитируем интервью, которое «Горькому» недавно дал специалист по Достоевскому Александр Криницын:
«Он много говорит о русских и России, а на самом деле описывает себя, собственные комплексы, страхи, проблемы. Когда он говорит, что типичный русский человек стремится к бездне, это не русский человек стремится к бездне, это Достоевский стремится к бездне. Но он так долго об этом кричал на каждом углу (особенно он повлиял своим авторитетом на исследования русской литературы за границей), что навязал о русских такой стереотип».
Бэгби с такой формулировкой категорически не согласился бы. Для него авторы-рассказчики зрелых вещей Достоевского кто угодно, но точно не сам Достоевский, даже если подпись указывает на обратное. Конечно, полифония — общее место в исследованиях творчества русского классика, но, кажется, мало кто указывал на ее проявления в настолько концентрированном виде. Для чего же Федору Михайловичу затевать эти игры, да еще и в предисловиях, которые с высокой вероятностью могут пролистать не читая? У Бэгби на это два ответа.
Ответ первый, утилитарный: «Как только мы согласимся различить два разных голоса, слышных в первых двух предложениях вступления, мы можем спросить себя, не слышны ли где-то еще другие голоса. Начнем опять читать сначала (о чем взывают многие фикциональные предисловия Достоевского), пытаясь услышать новые интонации, цитаты или аллюзии на других авторов и их тексты. Внезапно первое предложение начинает выглядеть совсем по-другому».
И ответ второй, идеологический: «В языке заурядного рассказчика возникает философия человечества, которая бросает вызов двум аудиториям: поколению 1840-х годов, идеализм которого мешал понять, кем мы являемся как биологический вид; и молодежи 1850–1860-х годов, которая настаивала на том, что существует исключительно материальный, феноменальный мир».
Получается, что Достоевский, во-первых, через введение в текст указывает читателю на правила, по которым надо читать, то есть ни в коем случае не воспринимая повествование буквально. Даже мрачнейшие произведения вроде «Записок из Мертвого дома» перестанут казаться чернухой, если следовать примеру их героя Горянчикову, который после отбывания каторги «придирался к словам, читал между строчками, старался находить таинственный смысл, намеки на прежнее».
Во-вторых, смена личин позволяет Достоевскому полемизировать и со своим прошлым, и со своей современностью. Но это не полемика сатирического журнала, а всегда нечто большее, надчеловеческое. «Записки из Мертвого» дома — не роман о необходимости реформировать пенитенциарную систему и не о том, что человек по своей природе зол. Отрицая традиционные пессимистические и оптимистические толкования, Бэгби предлагает читать эту книгу как роман о цикле смерти и перерождения в отдельной человеческой единице.
Думаем, этого краткого рассказа о научной оптике Бэгби будет достаточно для того, чтобы читатель составил примерное представление о книге, в которой разбираются и «Братья Карамазовы», и «Бесы», и «Дневник писателя», и менее изученные вещи Достоевского. Но сегодня мы воздержимся от пересказа всех наблюдений, изложенных в «Первых словах», иначе наша небольшая заметка грозит разрастись в огромный скучный конспект. Закончить хотелось бы на одной прекрасной и неожиданной метафоре, к которой Бэгби обращается, чтобы описать художественный метод Достоевского. Письмо русского классика он сравнивает с рисунками из средневекового манускрипта «Чудеса востока».
Эта книга украшена всевозможными чудовищами. Одни из них служат буквицами, другие заточены в рамки, третьи держат эти рамки, четвертые разорвали рамки и вторглись в текст. «И наконец, — пишет Бэгби, — есть рамки, которые совершенно исчезли». Спустя две сотни страниц он завершит найденный образ:
«Будь то в предисловии от лица вымышленного автора / редактора к „Запискам из Мертвого дома” или гибридном, вынесенном в подстрочное примечание прологе Достоевского к „Запискам из подполья”, вводный материал был отделен от художественного нарратива. Подобно животным, изображенным в миниатюрах на страницах „Чудес востока”, которые композиционно заключены в рамки, они образуют связное целое сами по себе. Они дают намеки относительно основного текста, их актуальность вытекает из сопровождающего дискурса. Однако в „Бесах”, можно сказать, метафора о звере реализовалась. Чудовища бродят по страницам романа и пожирают все и вся, что попадается им на глаза».
В таких элегантных заключениях и есть главное достоинство «Первых слов». Они с лихвой компенсируют тяжесть структуралистских построений, побуждая вновь обратиться к текстам, которые, как ошибочно кажется, остались где-то в школьной программе. И, пожалуй, именно в этом, а не в претензии на истину в последней инстанции заключается главная задача действительно хорошей литературоведческой книги, успешно выполненная Бэгби. Да, многие с ним не согласятся, обзовут формалистом, обвинят в подгонке элементов текста под свои догадки. И эти обвинения, конечно, не всегда будут беспочвенными.
Но именно здесь, где заканчивается литературоведение и начинается поэзия, возможно настоящее приближение к тому, чтобы действительно постичь текст, а не прочитать его и проанализировать. И один этот образ, уверены мы, стоит многих академических страниц, исписанных угрюмыми достоевсковедами.