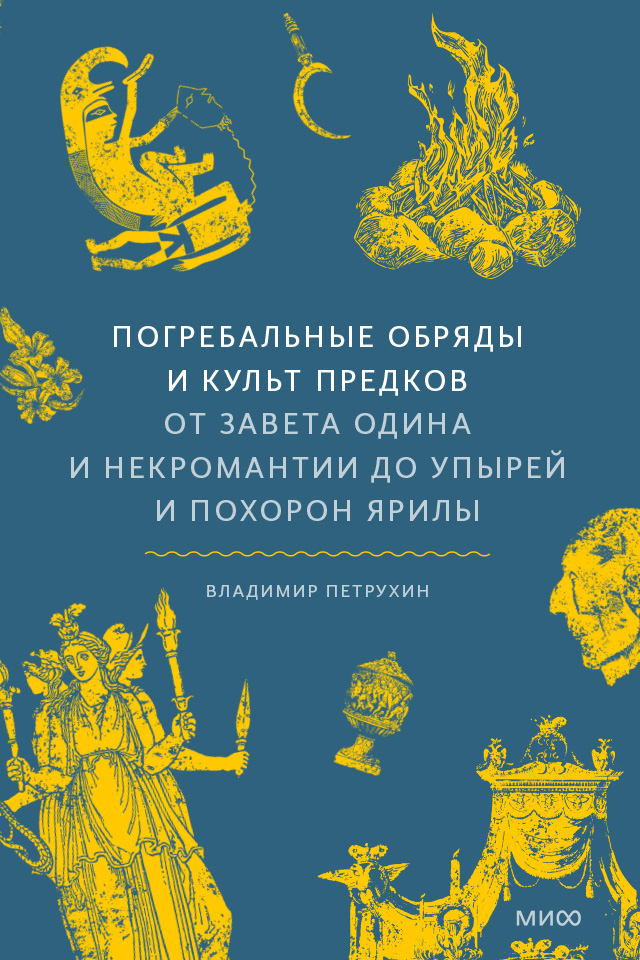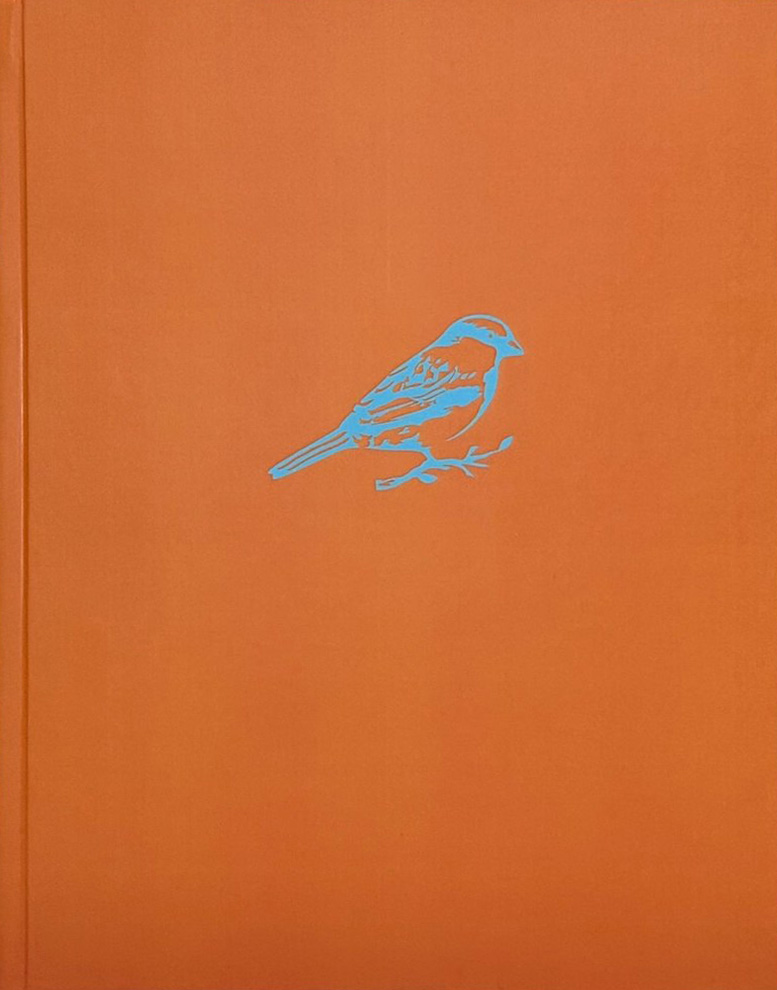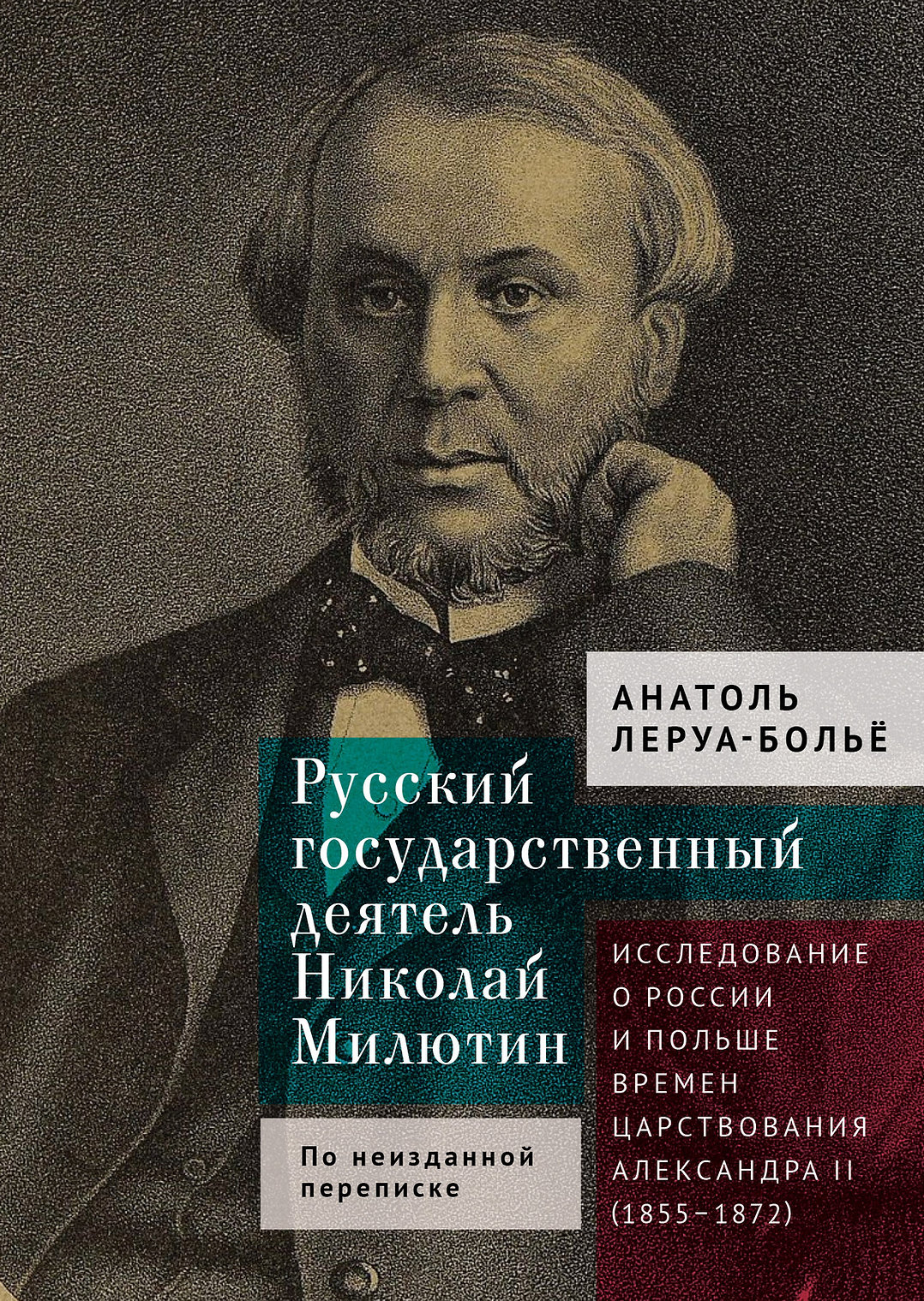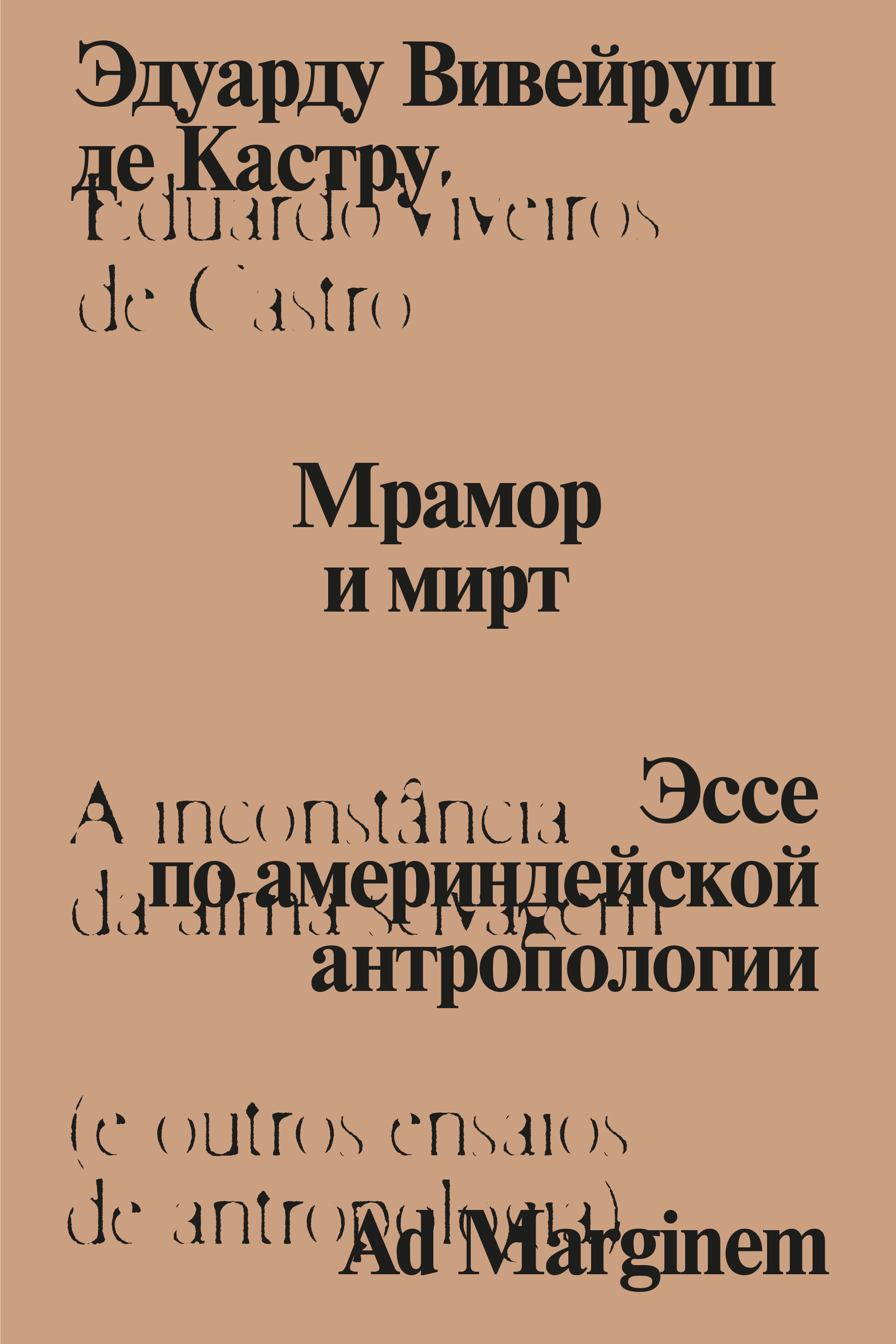Череп улыбался: книги недели
Что спрашивать в книжных
Компендиум обращения с мертвыми, сборник эссе Эдуарду Вивейруша де Кастру, монография о поэте Леониде Аронзоне и другие новинки: у редакторов «Горького» заведен обряд рассказывать по пятницам о самых интересных книгах уходящей недели, а обряды надо соблюдать.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Владимир Петрухин. Погребальные обряды и культ предков. От завета Одина и некромантии до упырей и похорон Ярилы. М.: МИФ, 2025. Содержание
|
Еще в доисторические времена наши самые далекие предки задумались о важнейшем вопросе: как распорядиться покойником, чтобы он не только не приходил по ночам издеваться над живыми, но и, быть может, принес им какую-то пользу? Из тщательных коллективных раздумий над этой проблемой родились первые погребальные обряды, которые знали и тщеславные кроманьонцы, и спесивые неандертальцы — никого владычица смерть не оставляла равнодушным.
Могилы — первейшие произведения человеческой культуры, основа основ. Однако просто выкопать могилу — мало, нужно в нее еще что-то положить, кроме, собственно, мертвеца. Или лучше его сжечь? Но как? Можно ли будет его потом призвать, если он обратился в прах?
О том, как на все эти и подобные вопросы отвечали индоевропейские народы (преимущественно скандинавские и славянские), в новой книге серии «Мифы от и до» рассказывает Владимир Петрухин — доктор исторических наук, автор многочисленных монографий о культуре и быте Древней Руси, Хазарии, финно-угорских народов и варяжьих общин.
Несмотря на небольшой объем и популярную подачу, эта книга наверняка откроет много нового даже самому искушенному в некрокультах читателю. Лично нас особенно заинтересовал среди прочего раздел, посвященный разнице между чукотским и русским отношением к черепам и с черепами умерших.
«Некая девушка нашла в тундре череп и принесла домой. Она заботливо уложила его в свой вещевой мешок и временами вынимала, ласково с ним разговаривая и улыбаясь ему. Череп улыбался в ответ. Однажды родители девушки заметили нечто странное, а когда увидели общение дочери с черепом, то вместе с сородичами в ужасе бежали со стойбища. Девушка разрыдалась и оттолкнула череп, а тот укатился искать свое тело. Вскоре он вернулся в облике красивого юноши, и молодая пара счастливо зажила вместе».
Петр Казарновский. «Изображение рая». Поэтика созерцания Леонида Аронзона. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание
|
Не подарок, но настоящий дар для ценителей неподцензурной поэзии советского времени — 750-страничный труд Петра Казарновского о Леониде Аронзоне, в издании собрания сочинений которого участвовал автор. Аронзоном Казарновский занимается всю научную жизнь, а новая его монография основана на диссертации, защищенной в Женевском университете.
Широкого читателя не должна отталкивать узкая тематика, вынесенная в заглавие. В действительности «Изображение рая» — первая, насколько нам известно, полноценная биография Аронзона, в которой литературоведческие изыскания органично вплетаются в общую жизнеописательную канву. Это неудивительно — вскоре после скоропостижной гибели (убийства? самоубийства? несчастного случая?) вокруг поэта стремительно выстроился большой миф, в котором его земная жизнь оказалась неотделима от его стихотворений — кристально ясных, но все равно каждый раз как будто не от мира сего: то ли запредельно счастливые, то ли запредельно печальные.
И все же ведущим мотивом на протяжении всей книги остается то самое «изображение рая» — так Аронзон определял источник своего письма, противонаправленного кошмарному здешнему быту.
«Автоперсонаж Аронзона не столько не равен самому себе, сколько находится в неустойчивой, иногда неуловимой, труднопостижимой позиции относительно своего автора-„оригинала“, что выражается в настойчивом мотиве двойничества. Поэт словно не удовлетворен самонаименованием „я“ — одним из источников этой лирической ситуации могут быть названы строки из первой главы поэмы Маяковского „Облако в штанах“: „...я / для меня мало“; правда, Аронзону совсем не свойствен трагико-романтический пафос молодого кубофутуриста — он подходит к этой проблеме созерцательно, нигде не теряя ровной, элегической (а то и идиллической) интонации. Думается, в отличие от Маяковского, Аронзон переживает избыточность „я“, что и порождает ситуацию двойничества, в пределе совмещающую в себе наслаждение и ужас, которые и воплощаются в ослепляющем свете».
Воспоминания о Серебряном веке. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2025. Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. Содержание
|
Мемуарами о деятелях и объединениях Серебряного века сложно кого-нибудь удивить: их существует бесчисленное множество, они широко доступны и хорошо известны всем, кто так или иначе интересуется этим периодом. Однако работа, проделанная славистом Вадимом Крейдом, определенно заслуживает внимания: он составил антологию воспоминаний по эмигрантским изданиям, включив в нее как фрагменты многократно переиздававшихся текстов (например, Зинаиды Гиппиус и Георгия Иванова), так и не републиковавшихся в России — причем последних большинство, — а героями их наравне со всеобщими любимцами являются Александр Добролюбов, Эллис и Василий Комаровский. Никаких открытий и откровений от такого издания ждать не стоит, задача его в другом: это попытка составить коллективный портрет и передать атмосферу эпохи, цельность которой, по мнению составителя, представляет собой отдельную ценность и предмет для пристального изучения. В предисловии он объясняет, почему эта мемуаристика столь широка и разнообразна — Серебряный век закончился в 1917 году, многие его видные представители оказались в эмиграции и там считали важнейшей своей задачей сохранить плоды этого культурного всплеска и передать их последующим поколениям. С одной стороны, они вполне преуспели, с другой — их наследие следует периодически реактуализировать, благо материалов предостаточно, а помнить о том, как отвратительно насильственное уничтожение органических культурных феноменов, необходимо.
«Белый утверждал, что Эллис „охватывался медиумизмом“. „Помню, — писал Белый, — собрались у меня Балтрушайтис, Феофилактов, ряд других лиц; кто-то сел за рояль, и Эллис тотчас пустился в быстрейшее заразительное верчение; не прошло и трех минут, все завертелись в пляске... Однажды был съезд естествоиспытателей, группу ученых с научного заседания привезли в частный дом показать им пародии Эллиса; были седые профессора, только что заседавшие где-то, но не прошло и получаса, как все завертелись в дикой пляске“.
При способности Белого все преувеличивать нужно к его рассказу, вдобавок уродски изложенному, подойти с большими поправками, но вот уже подлинный факт, мне хорошо известный (в несколько ином виде он упоминается и в мемуарах Белого). В одном московском загородном увеселительном заведении, в „Мавритании“, на сцене подвизалась пара танцоров. Эллис, ими недовольный, вскочил на сцену и, поучая танцоров, пустился в какой-то невиданный дикий пляс, настолько загипнотизировавший находившуюся в кабаре публику, что та, сгрудившись у подмостков, неистовыми аплодисментами награждала Эллиса. Но он вдруг остановился, обвел публику долгим презрительным взглядом и крикнул: „Жалкие буржуа, мало же вам надо, чтобы прийти в неистовство“».
Анатоль Леруа-Больё. Русский государственный деятель Николай Милютин. Исследование о России и Польше времен царствования Александра II (1855–1872). СПб.: БиблиоРоссика, 2025. Перевод с французского Михаила Щербины. Содержание. Фрагмент
|
В предисловии научный редактор Сергей Васильев напоминает, что главный герой книги, Николай Алексеевич Милютин (1818–1872), принадлежал к реформаторам 1860‑х годов — поколению, которое обеспечило глубокие и плодотворные общественные преобразования в России. Именно Милютин возглавил подготовку крестьянской реформы 1861 года, а потому его вклад в российскую историю сопоставим с заслугами Михаила Сперанского, Сергея Витте или Петра Столыпина. Однако, в отличие от упомянутых персон, фигура Николая Алексеевича окутана некоторой тайной. Дело в том, что он всю жизнь служил государству и, оставаясь бюрократом, не имел возможности публично излагать свои социально‑политические воззрения. В отличие от старшего брата, военного министра Дмитрия Милютина, Милютин-младший рано умер и не оставил мемуаров.
Неожиданным ключом к пониманию его личности становится книга французского историка Анатоля Леруа‑Больё, изданная в 1884 году. Ее основанием послужил обширный эпистолярный архив реформатора, а отчасти и личное общение автора с его ближайшими соратниками Юрием Самариным и князем Владимиром Черкасским. Благодаря этому корпусу писем мы имеем возможность услышать голос самого Милютина и проникнуть в идеи человека, которые даже самые скептичные современники называли из ряда вон выходящей, блестящей личностью. Леруа‑Больё не раскрывает происхождения документов, однако, по‑видимому, переписку передала вдова Милютина через Ивана Тургенева, друга семьи и знакомца французского ученого.
Стоит предупредить, что стиль книги несколько старомоден, а сама она посвящена освобождению крестьян лишь в малой степени и в основном повествует о преобразованиях в Польше в 1863–1866 годы, которыми Милютин руководил.
Пылкую личность автора характеризует, например, письмо, которым он призывал Самарина вступить в комиссию по подготовке крестьянской реформы:
«Почтеннейший Юрий Федорович! В дополнение к официальному приглашению, уже отправленному на ваше имя, мне поручено обратить к вам дружеское воззвание и от себя. С радостью исполняю это поручение, в надежде, что вы не отклоните от себя тяжелой, но приятной обязанности довершить великое дело, которому мы издавна преданы всей душой. Комиссия, в которую вы приглашаетесь членом,открылась на сих днях; <...> ...вы видите, что избираются люди, искренно преданные делу. Эксперты и министерские члены имеют совершенно равные права и обязанности. Депутаты же, призываемые из губернских комитетов, вероятно, будут иметь голос лишь совещательный. Могу вас вполне удостоверить, что основания для работ широки и разумны. Их может по совести принять всякий, ищущий правдивого и мирного разрешения крепостного узла. Отбросьте все сомнения и смело приезжайте сюда. Мы будем, конечно, не на розах: ненависть, клевета, интриги всякого рода, вероятно, будут нас преследовать. Но именно поэтому нельзя нам отступить перед боем, не изменив всей прежней нашей жизни...»
Эдуарду Вивейруш де Кастру. Мрамор и мирт. Эссе по америндейской антропологии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. Перевод с португальского Владимира Култыгина. Содержание
|
Аннотация противопоставляет «Мрамор и мирт» «Каннибальским метафизикам», указывая, что только что изданный на русском языке сборник доступнее и проще, чем самый знаменитый труд бразильского антрополога. Исторически новинка «Метафизикам» скорее предшествует: это сборник текстов разных лет, включая главу из магистерской диссертации де Кастру и заглавный текст 1993 года, в котором исследователь анализирует свидетельства католических миссионеров XVI-XVII веков, пытавшихся разобраться, есть ли у индейцев душа и все прочие положенные христианской антропологией вещи. В глазах самого бразильца «Мрамор и мирт» показывает непрерывность его собственной мысли, раннюю фиксированность на очерченном круге тем. Свидетельством этой общности служит тот факт, что в «Метафизики» перетекла (была каннибализирована) глава из первого издания сборника.
Де Кастру принято относить к «пост-человеческим» антропологам и это, безусловно, справедливо, однако сам он в предисловии лишний раз настаивает, что является правоверным продолжателем Леви-Стросса. Характерный пассаж:
«Я настаиваю на этом, потому что меня мало волнует, что там болит у постмодернистских антропологов, когда они заявляют о чудесном преодолении последних следов дуализма, обнажая всегда иллюзорный, безусловно вредный и в высшей степени неприменимый к незападному миру характер всего, что отдает „бинарной оппозицией“ или „структурой“. Говорить легко. Или, точнее, в этом случае говорить становится ужасно трудно (что не мешает тем, кто кричит о невозможности речи, продолжать сплетничать), ведь непорочное зачатие маловероятно как в духовном смысле, так и в телесном. Напротив, я считаю — перефразируя самого Леви-Стросса, — что дуализмы подобны истории: они могут привести к чему угодно, пока вы их преодолеваете. Те, кто спешит „выйти за свои пределы“, „занять позицию внешнего наблюдателя“, почти всегда возвращаются к себе через черный ход и уже никогда не выходят».
Понять, что такое «преодолевать дуализм», означает правильно понять подзаголовок «эссе по америндейской антропологии» — это не «наша, западная академическая» антропология, построенная на америндейском материале, а антропология, собранная из туземных концептов руками «нашего, западного академика». «Короче говоря, цель состоит в воссоздании понятийного индигенного воображения на языке нашего собственного воображения». Или, если угодно, попытка воплотить перспективистский подход к антропологической дисциплине. Импонирует, что де Кастру изначально допускает, что попытка не обязательно должна быть успешной — и ему, и нам интереснее, что происходит в попытке такой подход реализовать.