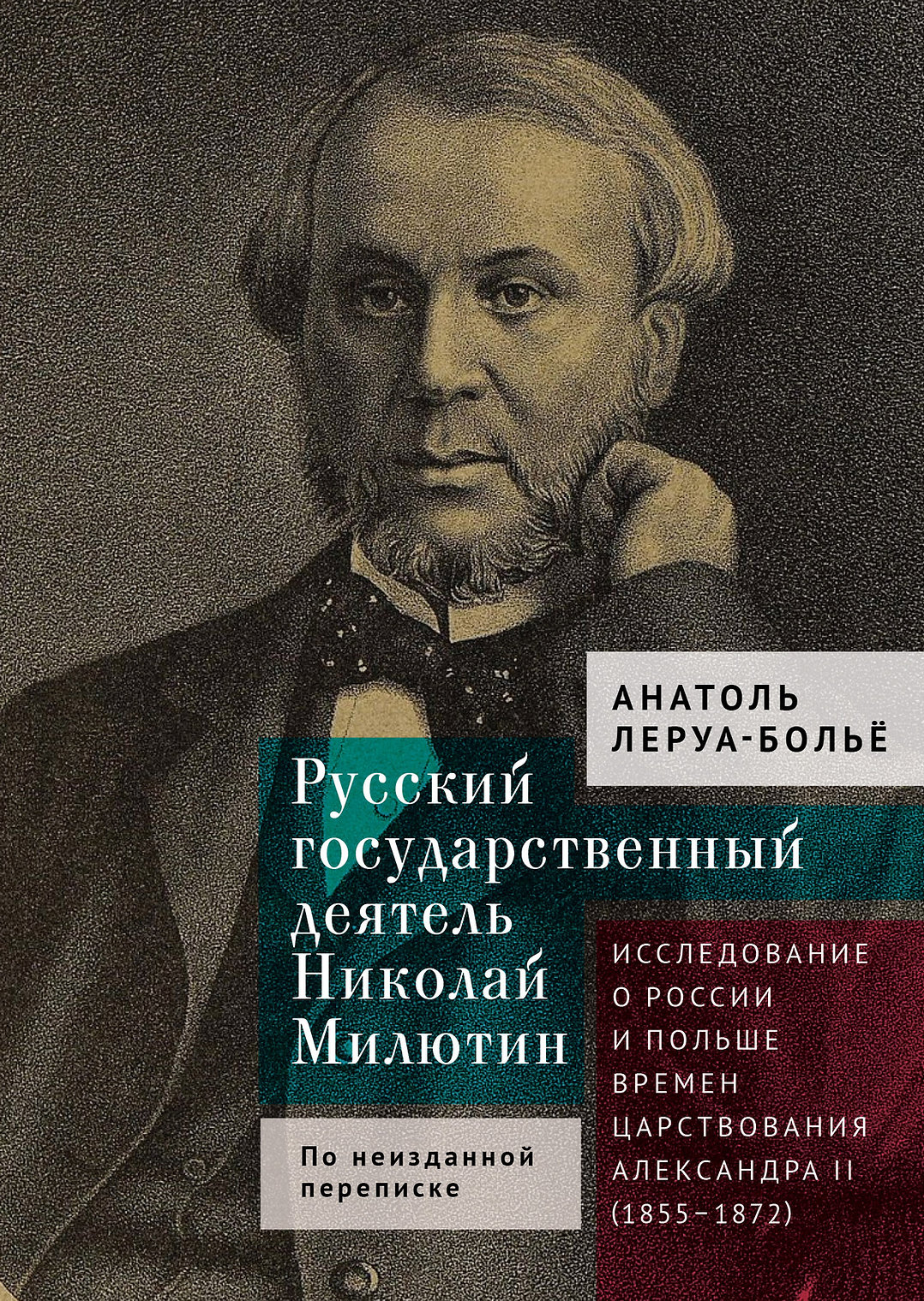Бедный генерал не дожил до реформы
Из книги Анатоля Леруа-Болье о Николае Милютине
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Анатоль Леруа-Болье. Русский государственный деятель Николай Милютин. Исследование о России и Польше времен царствования Александра II (1855–1872). СПб.: БиблиоРоссика, 2025. Перевод с французского Михаила Щербины. Содержание
|
В 1856 году при короновании в Москве в присутствии дворянства император Александр впервые выразил свое намерение освободить крепостных. Волнение, поднятое этим заявлением, скоро улеглось. Исполнение сказанного не последовало тотчас за обещанием. Нельзя забывать, что этот вопрос был самым серьезным, который могло рассматривать правительство. Он был опасен осложнениями аграрного характера, которые затрагивали самые основы собственности. Не стоило поэтому удивляться тому, что, поколебленное воплями земельных собственников, правительство с ужасом остановилось на полпути к революционным изменениям, глубину которых взгляд не мог охватить без головокружения.
В первом ряду тех нетерпеливых, кто желал быстрейшего проведения реформы, была великая княгиня Елена Павловна. Обладая живым воображением, она немедленно превратилась в пылкую сторонницу решения крестьянского вопроса. В своей благородной страсти к защите интересов крестьянства, возможно, из честолюбивых помыслов открытия нового пути, она решила опередить инициативу правительства и немедленно освободила от крепостной зависимости крестьян своего большого поместья в Карловке, в Полтавской губернии. В сентябре 1856 года она поделилась своими взглядами с Милютиным и попросила его составить для нее записку с рекомендациями на эту тему. Этим решением она тут же завоевала искреннюю симпатию Николая Алексеевича. Однако, как настоящий публичный деятель, озабоченный государственными интересами, он опасался, что поспешность великой княгини могла отрицательно повлиять на общий успех дела. По его мнению, родственница императора не могла довольствоваться тем, что давала пример личного великодушия, росчерком пера освобождая своих крестьян. Если таким образом она претендовала на лидерство в решении вопроса, в документе освобождения крепостных Карловки необходимо было заложить основы нового законодательства, применимого во всей России. Милютин хотел, чтобы проект освобождения, составленный для одного частного владения, не превратился в изолированный акт личной благотворительности, но мог послужить моделью для основного документа большой реформы.
Эта озабоченность будущим сквозит в каждой строке следующего письма, где за два года до созыва Редакционной комиссии уже видно, как обретают форму первые идеи Милютина. Письмо дает почувствовать, сколько препятствий он предвидел со всех сторон, как старался не выйти за рамки поручения, данного императором, как, советуя обращаться к инициативе земельных собственников, отказывался, однако, оставить решение вопроса одним только дворянским комитетам, которых опасался. Наконец, как, чувствуя необходимость поддержки со стороны непосредственного окружения монарха, Милютин подумывал даже обратиться лично к великому князю Константину Николаевичу.
По многим причинам это частное письмо можно рассматривать как опережающую программу всего того, что через два или три года должно было осуществиться в масштабе страны.
Уважаемая госпожа,
Я буду счастлив оправдать высокое доверие, которым соблаговолило почтить меня Ваше Императорское Высочество. Но чем больше я погружаюсь в серьезность моих обязанностей, тем сильнее чувствую недостаточность средств для их исполнения. Чтобы не потеряться в оценках и суждениях, которые все выносят о текущих событиях, надо иметь надежные данные, которых мне решительно не хватает. В моем одиноком положении я едва могу оценить ту почву, на которой нам предстоит действовать. Поэтому, чтобы выразить мнение по такому серьезному и деликатному вопросу, я должен проникнуться воспоминаниями о том доброжелательстве, которое мне всегда выказывало Ваше Высочество.
Согласно мысли, выраженной в записке, которую я имею честь представить здесь, речь идет (в случае получения разрешения) о начале предварительных переговоров с несколькими земельными собственниками Полтавской губернии, прежде всего, чтобы договориться об организации Губернского комитета. Только после получения на то разрешения можно будет приступить к его окончательному созданию. Эта инициатива, вполне законная и обоснованная рядом причин, должна быть подтверждена императором. В данный момент речь может, следовательно, идти только об установлении официальных отношений с наиболее либерально настроенными и влиятельными собственниками, такими, например, как князь Кочубей и Г-н Тарновский, испрошении их мнения о ведении работ будущего комитета и о выборе его состава. Их ответы могли бы облегчить составление записки, которая затем была бы представлена на оценку Его Величества. Если эти господа выразят в то же время свои идеи по сути вопроса, думаю, что будет осмотрительнее не обсуждать их точки зрения, чтобы сохранить за собой всю свободу действий в будущем.
В интересах дела эти предварительные действия потребуют, возможно, серьезной моральной поддержки, чтобы с самого начала определить еще столь колеблющиеся идеи и убеждения. Простое частное лицо, как я, которое Ваше Высочество соблаговолили выбрать, не будет обладать ни достаточным авторитетом, ни независимостью для выполнения такого задания. Это лицо лишь скомпрометирует свое будущее и не достигнет цели. Могу ли я назвать Вам то единственное лицо, которое обладает всеми необходимыми титулами, чтобы служить хранителем мыслей Вашего Высочества?.. Не будучи знаком со взглядами Его Высочества Великого князя (Константина), не смею более настаивать и заранее прошу Его Высочество извинить меня, если я, возможно, высказал мысль, находящуюся за пределами моей компетенции. Однако, не зная заранее, будет ли дано Высочайшее разрешение, очень трудно судить о шансах и условиях, на которых будет обсуждаться вопрос. Позвольте мне, любезная Госпожа, вернуться к нему, собрав более полную информацию. Буду рад иметь возможность участвовать в качестве простого и безвестного труженика в деле, которое Ваше Высочество без колебаний предприняло.
Два года спустя, в декабре 1858 года, Милютин направил великой княгине новую записку. По предложению его высокопоставленной единомышленницы этот новый документ, дополненный и детально прописанный, должен был попасть на глаза императору. Неуверенно чувствовавший себя при дворе Николай Алексеевич скрыл свое авторство документа. Скромный предварительный проект, составленный Милютиным для одного имения, в своих основных чертах был затем распространен на всю империю. Но на тот момент его творение в глазах окружающих официально должно было оставаться анонимным.
Через несколько недель после завершения проекта по Карловке, в начале масленичной недели 1859 года, Николай Алексеевич, назначенный наконец товарищем министра, получил частную аудиенцию у императора и поговорил с ним наедине о предварительных условиях освобождения. Александр II только что передал управление делами предстоящей реформы в руки генерала Ростовцева, пользовавшегося его доверием. В любой другой стране такой выбор для подобного дела несказанно удивил бы. Однако в России, где не обращают внимания на профессиональные требования и специализацию, никого не удивляет даже самая неожиданная кандидатура. Милютин не был лично знаком с Ростовцевым. Но даже то, что всем было о нем известно, в частности доверие к нему императора Николая I после доноса генерала, которому стало известно о заговоре декабристов, было достаточным, чтобы держаться от него в стороне. Милютину казалось, что немногие были столь же не способны стать основным орудием реформы, как этот генерал. Но в практической политике Николай Алексеевич умел воспринимать события и людей такими, какими их ему преподносили обстоятельства. Он довольствовался тем, что высказал самодержцу одну свою идею, которой уже успел поделиться с Ланским. Он скромно заметил, что, «дабы облегчить задачу генерала Ростовцева и представить ему практические данные», было бы, возможно, полезно вызвать на консультацию с представителями разных министерств также крупных землевладельцев из провинции. Похоже, что это предложение понравилось императору, и несколько дней спустя Ростовцев, назначенный председателем Редакционной комиссии, получил официальный приказ к его исполнению. Еще через день генерал пригласил Милютина зайти к нему.
Радость Николая Алексеевича не была безоблачной. Помимо своего прежнего нежелания вступать в какие-либо отношения с Ростовцевым, он сомневался в возможности доведения до успешного конца такого обширного предприятия под руководством столь некомпетентного, судя по его прошлой деятельности, человека. К своему удивлению, Милютин встретил лучшее расположение к себе генерала, чем мог ожидать. И хотя тот по-прежнему не проявлял серьезных знаний в вопросе, Милютин убедил себя в том, что председатель комиссии проникся благородными намерениями монарха и искренне желал осуществить реформу. Николаю Алексеевичу показалось также, что Ростовцев полностью осознавал величие своей задачи, не без опасений приступал к ее решению и по этой причине с благодарностью принимал любую дополнительную информацию, приходившую к нему извне. Расположение генерала, которым Милютин смог умело воспользоваться, значительно облегчило ему начало работы. Однако позже оно стало источником затруднений, потому что под влиянием своей неуверенности и тревоги Ростовцев по очереди подпадал под противоположные влияния. Не обладая ни достаточными знаниями, ни решительностью, чтобы навязать свое мнение суетившимся вокруг него группировкам, бедный генерал пал первой жертвой их междоусобиц, скончавшись за год до завершения подготовительных работ реформы.
Вследствие некомпетентности и нерешительности генерала на Милютина легла основная часть работы по отбору сотрудников в Редакционную комиссию, которой, несмотря на ее скромное название, было поручено гигантское дело. Комиссии предстояло не только разорвать вековые путы крепостничества, но и дать ответ на самые острые вопросы касательно собственности. В то же время она должна была разработать для империи, которая еще почти полностью оставалась сельской, новую систему администрации, полиции, правосудия. Никогда еще ни перед одной законодательной палатой Европы не стояла такая трудная задача. Заседания комиссии, разделенной по обыкновению на подкомиссии, вскоре стали проходить без всякого церемониала. Форменная одежда и этикет были преданы забвению для большей непринужденности бесед в сопровождении чая и сигары или папиросы в зубах.
Состав комиссии, как и подобает для серьезной работы, был немногочисленный: всего двадцать или двадцать пять человек. По замыслу самого Милютина, комиссия состояла из представителей двух различных классов: чиновников и сельских землевладельцев. Первые были высшими должностными лицами различных министерств, такими как сам Милютин, который, естественно, считался одним из представителей Министерства внутренних дел. Земельные собственники, или эксперты, выбирались среди либерального меньшинства провинциальных дворянских комитетов, а не избирались всеми членами комитетов, которые, несмотря на гневные требования некоторых лиц, получили лишь право посылать делегатов для представления разъяснений центральной комиссии. Большинство собственников, призванных заседать в комиссии, все эти Черкасские, Самарины, Галаганы, Тарновские, Голицыны, Татариновы, были рекомендованы Ростовцеву Милютиным. Они образовали ядро группы, которая во всем поддерживала Министерство внутренних дел в его борьбе с зачастую враждебным большинством, иногда опиравшимся на симпатии самого председателя комитета. Следует отметить, что действительно в этом собрании, где численностью членов и влиянием всех превосходил бюрократический элемент, Милютин, которого часто представляли как воплощение уравнительных инстинктов чиновничества, неизменно находил твердую поддержку именно в группе земельных собственников.
Почти все его помощники, приехавшие из разных концов империи, отобранные по характеристикам, данным им губернскими комитетами, и представленные Ростовцеву, не были лично знакомы Милютину. Единственный, с кем он ранее поддерживал отношения, был Юрий Федорович Самарин, литератор-славянофил, несомненно, один из самых блестящих публицистов современной ему Европы. Их знакомство, со временем ставшее близким, длилось многие годы, но первые узы дружбы связали их благодаря общей преданности крестьянскому делу. Как-то раз, в 1857 году, Самарин, уже известный в то время своими работами по вопросу крепостного права, без приглашения нанес визит Милютину, пребывавшему в отпуске в поместье семьи своей супруги в глуши Московской губернии. Разговор писателя с чиновником коснулся освобождения крестьян, которое тогда было еще лишь смутным проектом. Имение, ставшее местом встречи этих двух разнохарактерных и получивших разное образование людей, называлось Райки. Название ему когда-то дал Александр I во время своего путешествия из Москвы во Владимир. Место это расположено на реке Клязьме, ранее называвшейся Великокняжеской и уже давно потерявшей всякое хозяйственное значение из-за соседства с рекой Москвой. С высокого лесистого берега здесь взгляду открываются идущие до линии горизонта бесконечные луга, поля и леса, какие можно увидеть только в России. Волею удивительного случая на противоположном берегу виднелся единственный господский дом в Варино — владении Ланского, министра и друга Милютина. В этом радующем взор большом имении, одном из многих в России, проданном с тех пор новому владельцу, который разделил его на несколько мелких и вырубил весь лес, Милютин и Самарин завязали прочную дружбу. Меряя шагами большой салон господской усадьбы, ныне запущенной и разрушающейся, долгими часами, пока осенние дожди хлестали в окна, эти два человека, еще не имевшие никаких полномочий, но объединенные любовью к народу, за четыре года до императорского манифеста составили в общих чертах проект реформы освобождения.
Когда наконец пришел час исполнения задуманного, Николай Алексеевич не забыл своего друга Юрия Федоровича. Не менее одаренный в качестве оратора, чем как писатель, Самарин выделялся красноречием среди всех представителей элиты, составлявших комиссию.
Вот с какими словами Милютин воззвал к преданности Самарина делу общественного блага:
Санкт-Петербург, 9 марта 1859 года.
Почтеннейший Юрий Федорович! В дополнение к официальному приглашению, уже отправленному на ваше имя, мне поручено обратить к вам дружеское воззвание и от себя. С радостью исполняю это поручение, в надежде, что вы не отклоните от себя тяжелой, но приятной обязанности довершить великое дело, которому мы издавна преданы всей душой. Комиссия, в которую вы приглашаетесь членом, открылась на сих днях; <...> ...вы видите, что избираются люди, искренно преданные делу. Эксперты и министерские члены имеют совершенно равные права и обязанности. Депутаты же, призываемые из губернских комитетов, вероятно, будут иметь голос лишь совещательный. Могу вас вполне удостоверить, что основания для работ широки и разумны. Их может по совести принять всякий, ищущий правдивого и мирного разрешения крепостного узла. Отбросьте все сомнения и смело приезжайте сюда. Мы будем, конечно, не на розах: ненависть, клевета, интриги всякого рода, вероятно, будут нас преследовать. Но именно поэтому нельзя нам отступить перед боем, не изменив всей прежней нашей жизни. Идя в Комиссию, я более всего рассчитывал на ваше сотрудничество, на вашу опытность, на ваше знание дела. При всей твердости моих убеждений, я встречаю тысячу сомнений, для разрешения которых нужны советы и указания практиков. Здесь вы нужнее, чем где-либо...
Конец этого письма показывает, насколько Милютин не заслуживает упреков в пренебрежении к практическому опыту и доверии исключительно к кабинетной работе. С ранней молодости находясь в заточении в министерских канцеляриях, он чувствовал лучше других, чего ему не хватало в плане практических знаний. Этот бюрократ был одним из первых, кто запросил советов от крупных земельных собственников, которые знали деловые обыкновения и потребности народа. Именно среди помещиков, врагом которых он слыл, он нашел двух самых близких и верных друзей, имена которых навсегда неотделимы от его имени.