Апология Пабста
Владимир Максаков — о романе Даниэля Кельмана «Светотень»
Кадр из фильма «Парацельс» (реж. Г. В. Пабст, 1943)
Современный немецкий писатель Даниэль Кельман посвятил свой роман «Светотень» извечному вопросу: как соотносятся искусство и власть, художественное творчество и политическая тирания? Чтобы найти ответ на него, автор попытался воссоздать творческий путь знаменитого австрийского режиссера Георга Вильгельма Пабста языком киноэкспрессионизма, чья эстетика, как известно, предчувствовала близящийся приход нацизма. О том, к чему это привело, читайте в материале Владимира Максакова.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Даниэль Кельман. Светотень. Нойкирхен-Флюн: Fresh Verlag, 2025. Перевод с немецкого Александры Берлиной
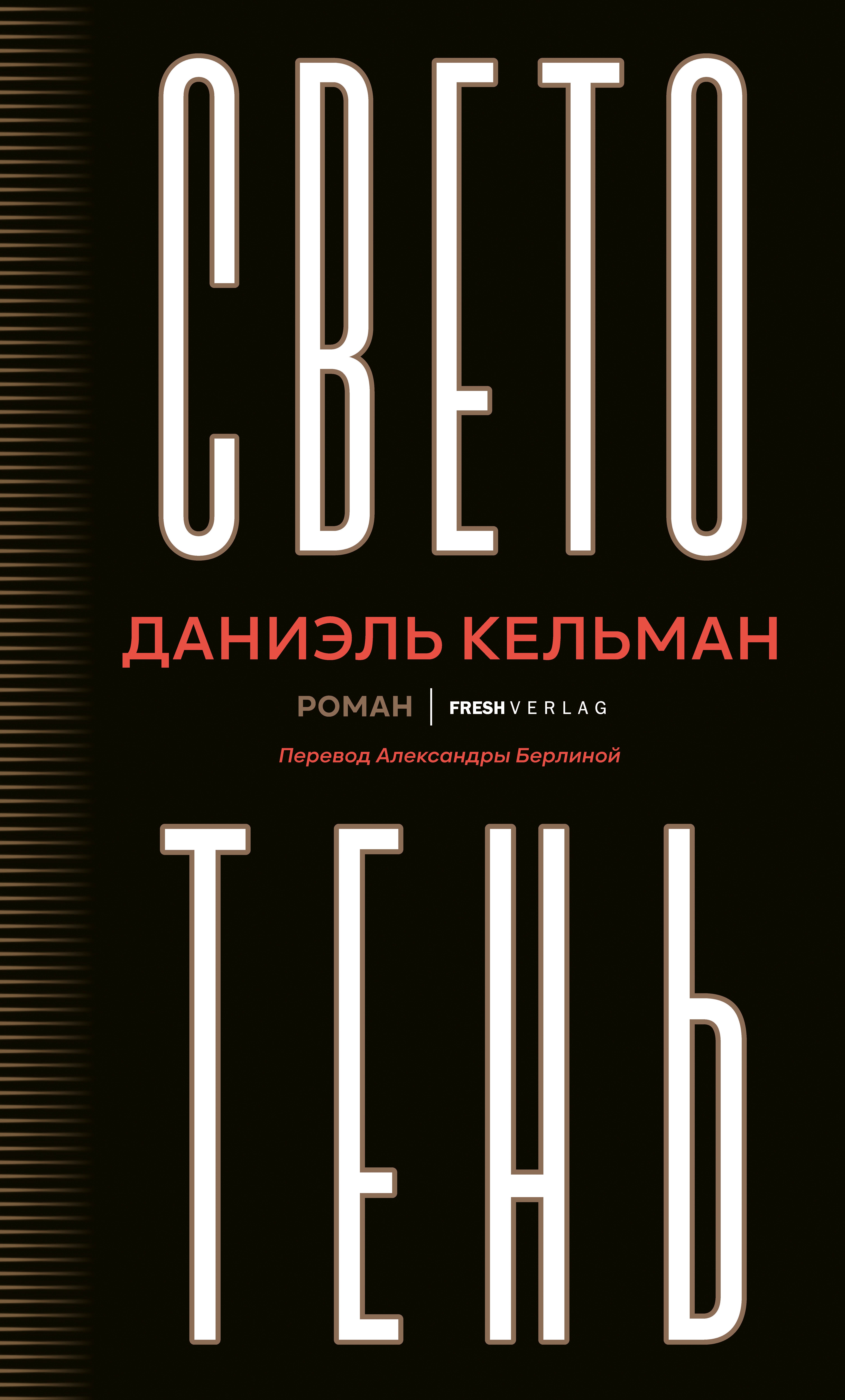
С легкой руки Зигфрида Кракауэра практически общим местом в работах о национал-социализме стала мысль, что немецкий киноэкспрессионизм предчувствовал Гитлера. В одном ряду с жуткими образами Носферату и доктора Калигари стояла фигура человека, от которого ожидали, что он, придя к власти, окажется носителем порядка. И в этом смысле ничего плохого в нем не было — пока он не пришел к власти.
Знаменитый австрийский кинорежиссер Георг Вильгельм Пабст, герой романа Даниэля Кельмана «Светотень», был одной из ключевых фигур немецкого экспрессионизма — но конечно, не только: его творчество, как и творчество любого другого художника, ломало все и всяческие «измы». Один из приемов, к которому Кельман прибегает в «Светотени» (название книги, разумеется, тоже отсылает к экспрессионизму), — мимикрия текста под киноязык гениального режиссера, мастера выразительных сцен, совмещающих реалистическое и гротескное ви́дение мира. Пабст у Кельмана буквально мыслит в категориях киноэкспрессионизма, и этим подчеркиваются две авторские идеи. Во-первых, экспрессионизм отчетливо узнаваем — как-никак это было самое мощное течение в немецком кино, к тому же почти непосредственно предшествовавшее взлету национал-социализма. Во-вторых, само мышление Пабста исторично и опирается на хорошо знакомый ему художественный опыт.
«<Он> огляделся: углы домов казались кривыми, фонари отбрасывали глубокие, чернее черного, тени; снизу абсолютно прямой линией катилась в бесконечную даль улица, сверху дымовая труба колола преувеличенно большую луну. Таким лет пятнадцать назад выглядел мир в фильмах, и почему-то эта мысль настолько его успокоила, что он смог идти дальше и в конце концов нашел свой отель».
В этом отрывке заметно, что мир Пабста, впервые увиденный им пятнадцать лет назад в кино, не изменился. При желании его можно узнать и даже проложить себе дорогу через него. Но ведь это тот же самый мир, в котором в итоге к власти пришел Гитлер и в котором теперь вынужден существовать сам Пабст. Итак, кино — особенно в работах гениального режиссера — предчувствовало Гитлера. Кино было массовым искусством, как и Гитлер — политиком масс.
В книге Кельмана этому конфликту уделено важное место: решив уехать от нацистов, в Голливуде Пабст, в отличие от многих своих коллег, успеха так и не добился, хотя прекрасно знал правила игры и, когда в этом была необходимость, так же прекрасно умел находить общий язык с продюсерами. Но ему так и не удалось понять американского зрителя, так что в конечном счете Пабст потерпел неудачу. Путь художника-эмигранта для него оказался закрыт. Он возвращается на родину, которая уже стала Остмарком Великогерманского рейха, — и после периода депрессии обнаруживает, что на родине его по-прежнему ценят и ждут:
«Техника отличная, команда опытная, лучшие театральные актеры страны в его распоряжении, и в сценарии ни за одну строку не приходится краснеть! Все его изменения приняты без возражений. Ни во Франции, ни в Америке он не знал такой творческой свободы!»
Вряд ли это только ирония.
Следуя кинематографической логике романа, Кельман противопоставляет «фабрику грез» и кинопроизводство в Третьем рейхе. Если первая воспринимает кино как прекрасную иллюзию, то второе — не просто как средство пропаганды, но и как самое реалистическое из искусств:
«— Более того, <в гитлеровской Германии> снимают великолепные фильмы, — ответила она. — Такое государство крайне кинематографично. Пожалуй, более, чем любое другое в истории.
— За исключением Спарты? — предположил я.
— В Спарте были паршивые камеры.
— Это да. Глиняные объективы, на редкость неудобно.
— Бронзовые бобины!
— А хуже всего: все фильмы исключительно по античным сюжетам!»
Насмешливое — хотя и не только — сравнение Третьего рейха со Спартой важно как проговорка. Для нацистов этот овеянный мифами древнегреческий полис был образцом милитарного, пусть и не арийского, государства, а архаичная спартанская скульптура могла служить образцом для их собственной культуры.
В романе Кельмана Пабст не раз признает за собой главное свое достоинство как режиссера — владение монтажными приемами, что, по методу избирательного сродства, сближает его с Сергеем Эйзенштейном. Именно благодаря этим приемам Пабсту, Эйзенштейну и их современникам удалось поднять мировой кинематограф на одну из его вершин. Конечно, эта идея в книге возникает не случайно. Порой кажется, что саму жизнь героя романа можно пересобрать — подобно тому, как склеивается, разрезается и переклеивается кинолента. Более того, в зависимости от способа монтажа отдельных частей фильма меняется и его смысл, в чем, опять же, сложно не увидеть параллель с человеческим существованием (вот только такой монтаж возможен лишь после смерти человека). Известно, что кино обладает терапевтическим эффектом, и в случае с Пабстом эта метафора опредмечивается: его Парацельс не только лечит людей на экране, но и словно гипнотизирует тех, кто сидит в зале.
За годы жизни в Третьем рейхе Пабст создал три картины: «Комедианты», «Парацельс» и «Дело Моландера» — последняя оказалась утрачена, а первые две, снятые на исторические сюжеты, нашли живой отклик не только у широкого зрителя, но и у Геббельса, так что их признали «(особо) ценными в государственно-политическом и художественном отношениях».
Отдельно остановимся на «Парацельсе», вызывающем подлинный восторг немецкой аудитории:
«Выпьем же за то! — выкрикивает он <артист Вернер Краус, исполнитель главной роли>. — Что мы! Вместе! Воскресим для новой жизни! Великого Парацельса! Великого немецкого доктора! Выпьем за это, мастер, выпьем за это, друзья!»
Рассказ об этой работе Пабста приобретает полифоническое измерение благодаря метафоре зрительного зала, куда на премьеру «Парацельса» сошлись и поклонники, и недоброжелатели режиссера — но в любом случае люди, неравнодушные к его творчеству. Это одна из самых потрясающих сцен «Светотени». На премьеру в качестве почетного гостя приглашен и английский пленный, писатель, в образе которого легко угадываются черты П. Г. Вудхауза. И то, как ключевую сцену «Парацельса» видит именно этот зритель, — благо он иностранец, — удивительным образом проливает особенный свет на использованные в ней метафоры и символы. Позволим себе процитировать этот длинный отрывок полностью:
«Часть происходившего я не понимал, но в основном следить за действием удавалось. Другие врачи, злобные старые шарлатаны, были против мудрого Парацельса, хотели избавиться от него, но за него стояли молодые студенты. Потом в город пришла болезнь, люди потели, и кашляли, и дрожали от страха, а потом… Потом было что-то невероятное. Трактир. Люди сидели за столами, в центре плясал худой шут… Посетители трактира не могли глаз оторвать от пляшущего шута. Кто-то покачивал ногой, кто-то кивал головой, кто-то отбивал такт, кто-то подергивал плечами в ритме музыки. Выглядело это совершенно естественно и нормально, и таким же естественным и нормальным показалось то, что здесь и там кто-то поднялся и повторил за шутом несколько па — но потом начали вставать еще люди, и еще, и вот уже никто не мог удержаться, никто не сидел, пляска охватила всех. В ней не было ни малейшего веселья, не было ни радости, ни свободы. Пляшущие прыгали вперед и назад, влево и вправо, дергались всем телом, извивались, будто дав волю страстям, но строго в унисон и с отчаяньем в лицах. Никто ни на йоту не отклонялся от общего ритма. Вошел Парацельс, держа в руках меч. Некоторое время он смотрел, как все пляшут, потом, оценив ситуацию, резко что-то выкрикнул. И пляска действительно остановилась. Из людей будто вытекло шутовское безумие. Они замерли, скорее равнодушные, чем испуганные, снова расселись по местам, взялись за кружки, вид у них еще был немного оцепеневший, немного смущенный, но в общем и целом как будто ничего не произошло. Я протер глаза. Это не дешевый оборот речи: я действительно поднял руки и коснулся своих дрожащих век. Что это было?»
Кажется почти очевидным, что идеологи национал-социализма видели в фигуре Парацельса как врачевателя народа метафорический образ Гитлера — того, кто пришел и остановил лихорадочную пляску святого Витта, в которую была погружена Германия. Ведь фюрер не только принес порядок, но и излечил «народное тело», как он сам выражался, от «чумы коммунизма». Но какой она представлялась самому Пабсту и почему эта сцена в книге так важна? Вряд ли Пабст сознательно вкладывал в свой фильм «идеологически верные» смыслы. Он вполне мог прочитывать свою картину совершенно иначе: «„Парацельса“ будут смотреть и через пятьдесят лет, когда этот кошмар давно забудется»! Однако историческая ситуация, в которой создавался его шедевр, позволяла воспринимать его именно так, как хотелось Геббельсу. И это подводит нас к выводу, особенно важному сегодня: условия тоталитарного режима налагают на художника особую ответственность, так как теперь к его произведениям неизбежно относятся пристрастно и они не могут пройти незамеченными. Возможно, эта мысль подчеркивается и тем, что Пабст в романе становится невольной жертвой черни: в порыве скорее злобы, чем бунта хаусмайстер его замка, Йержабек, успевший присоединиться к «движению», сбрасывает своего хозяина с лестницы.
В «Светотени» тонко обыгрывается и литературный контекст того времени. В одном из эпизодов в Берлине собирается книжный клуб, состоящий из жен высокопоставленных нацистских функционеров. Они обсуждают весьма посредственную патриотическую литературу — в частности, творчество Альфреда Карраша, — но в какой-то момент вспоминают и об «уехавших» Германе Гессе и Томасе Манне:
«Снова воцарилась тишина.
— Да-да, Гессе! — повторила Гритт Боргер. — Его же еще можно… Он же не…?
— Да, — сказала Хенни Портен. — Конечно. Гессе можно. Он в Швейцарию уже давно переехал. Задолго до всего.
— Вы с ним знакомы, Хенни, дорогая? — спросила Мария Лотропф.
Хенни Портен помотала головой.
— Ну как же, а я фотографию видела, — сказала Гритт Боргер. — Вы рядом с ним, он во фраке. На какой-то премьере.
— Это был не Гессе. Кто-то другой.
— Томас Манн! — воскликнула Гритт Боргер.
И опять все затихли».
По иронии судьбы, Пабст возьмется за экранизацию романа Карраша «Партиец Шмидеке» — и, как обычно, будет работать с полной отдачей. Источник режиссерского вдохновения в кино играет далеко не главную роль. Пабсту доводилось иметь дело не с самым лучшим литературным материалом и снимать в трудных условиях. Однако на свет, судя по всему, должен был появиться шедевр — то самое «Дело Моландера». Особенно интересно следить, как Кельман реконструирует в тексте процесс создания фильма — так никогда и не увиденного зрителем. Абсолютная кинематографичность некоторых описаний кажется под стать декорациям как будто уже готовой картины. Часть реплик «Светотени» похожа на команды самого режиссера, на этакое проговаривание вслух монтажного текста — еще один пример взаимного подражания кино и литературы. Некоторые события в книге даже происходят как будто по два раза — в воображении Пабста и в реальности — словно перед нами проматывается пленка.
Неведомый шедевр в книге Кельмана выступает ключевым оправданием, объясняющим, почему Пабст остался в Германии несмотря на Гитлера. Герой романа действительно должен был снять свою великую и прекрасную утопию, только и возможную на фоне европейской катастрофы, — фильм, которому предстояло искупить ее в глазах великого режиссера. Именно поэтому картина Пабста — вернее, то, как реконструирует ее Даниэль Кельман, — не вырастает из условий нацистской Германии, а превосходит эти условия. Как и всякое подлинное произведение искусства.
И последнее. Роман прекрасно переведен на русский язык Александрой Берлиной, поставившей перед собой сверхзадачу: передать кинематографичность оригинального текста. Позволю себе метафору — Пабст говорит с нами в том числе языком Эйзенштейна, и это безусловная и драгоценная находка переводчика.