Владимир Маяковский о своем будущем памятнике
Евгения Александровна Ланг: Виктор Дмитриевич, вы меня спросили вчера о зиме 1911–1912 года и поставили вопрос так: подозревала ли я в то время, что Маяковский был поэтом, потому что для меня он был только художником и учеником Школы живописи и ваяния. То, что он был поэт, я просто тогда не подозревала.
Виктор Дмитриевич Дувакин: Зима 11–12-го года?
Е. Л. Да, вот зима 11–12-го года.
В. Д. Еще он не объявил себя поэтом? А писал он или не писал?
Е. Л. Не знаю, может, кому другому и объявлял. Может, Бурлюк об этом уже знал, но я не знала. И вот я вам расскажу случай. Зашел как-то среди зимы Маяковский за мной в школу Келина. Был очень приятный зимний день, хрустел снежок под ногами. Мы пешком с Тверской-Ямской шли в центр и переходили площадь у Страстного монастыря.
Маяковский вдруг остановился, как он так любил иногда останавливаться в дороге, сделал широкий жест рукой и совершенно для меня неожиданно сказал: «А вот здесь когда-нибудь будет стоять мой памятник».
Я одурела совсем. Я говорю: «Володь! Что ты бредишь совсем?» Он говорит: «Нет. Здесь, вот здесь, увидишь, будет стоять мой памятник».
В. Д. В каком месте он стоял?
Е. Л. У Страстного монастыря. Там, где он теперь стоит.
В. Д. Нет. Он стоит на старой Триумфальной, площади Маяковского.
Е. Л. На старой Триумфальной. А он сказал у Страстного монастыря.
В. Д. Напротив Пушкина?
Е. Л. Да. Тогда я ему сказала: «Володь! Ты что, бредишь?» Он говорит: «Нет. Я это очень хорошо вижу. Вот здесь, на площади, будет стоять мой памятник». Тогда я засмеялась и сказала: «Но ведь художникам памятников не ставят». Тогда он сказал: «Нет, мне памятник поставят не как художнику, мне памятник поставят как поэту». Тогда я сказала: «А ты разве пишешь стихи?» Он говорит: «Пишу». Я говорю: «Почитай же мне». Он мне на это ответил: «Я их никому еще не читаю, потому что я не готов, но я буду когда-нибудь очень большим и известным поэтом, и мне будет стоять памятник». Потом он подождал минуту, мы стояли на площади, и сказал: «И памятник этот ты увидишь. Ты из далеких странствий вернешься в Москву, увидишь памятник, а меня уже в живых не будет». У Володи было какое-то необычайное пророческое чувство, особенно к себе. Он очень многое предвидел. Вот мне кажется, что это было на площади Страстного монастыря. Теперь, когда все так перестроено… Может быть, это было действительно на той площади, где памятник стоит. За это я не ручаюсь, во всяком случае, на одной из этих двух площадей это было.
Тогда я его спросила: «Володя, ты ведь очень талантливый художник, почему же ты хочешь бросить живопись — потому что совмещать ведь это нельзя — и стать поэтом?» Он сказал: «У меня как у живописца чересчур ограниченная аудитория. Мне нужна мировая аудитория. А художнику что — Третьяковская галерея в лучшем случае. И то кто туда еще ходит? А мне нужно говорить на площадях».
В. Д. Евгения Александровна, это, конечно, совершенно потрясающее, но только вчера вы почему-то об этом не рассказывали?
Е. Л. А забыла. Звонок был, и перешли, или кто-то пришел.
<…>
В. Д. Да, это то, что вы рассказали в прошлый раз. Это, конечно, совершенно особого… Понимаете, очень трудно в это поверить, прямо скажу.
Е. Л. Вот трудно, трудно.
В. Д. Но должен вам сказать, что есть, во всяком случае, в отношении главной темы — мысли о памятнике — свидетельство другое.
Е. Л. Да?
В. Д. Утверждающее. У меня записана Александра Вениаминовна Азарх, с которой был такой эпизод. Немножко позже Маяковский тоже за ней немножко ухаживал. Она его боялась, как грубияна. Он позвонил ей, а она, даже не изменив голоса, ответила: «Нет дома». Он помолчал, и потом вдруг раздался его голос: «Вот когда я буду стоять памятником на площади Маяковского, то вы об этом пожалеете», — и повесил трубку*. Евгения Александровна, как видите, есть свидетельство, что о памятнике он говорил.
Е. Л. Очень интересно.
В. Д. Там тоже она расхохоталась. У нее сидели…
Е. Л. Я не хохотала тогда, я сказала…
В. Д. Там ведь еще больше. «Когда я буду стоять памятником на площади Маяковского». То есть, что будет площадь Маяковского, памятник будет. «И теперь мне, конечно, со стыдом приходится признаться…» — она сказала…
Е. Л. Да-да-да. У него вообще был необычайный какой-то, я бы сказала, провидческий дар, особенно в отношении самого себя. Он как-то необычайно в будущем разбирался.
И когда мы прощались с ним, когда я уезжала за границу, он мне тоже повторил: «В Москву ты, конечно, вернешься и в ней закончишь свою жизнь, но меня уже давно не будет». Это он мне тоже сказал. Все было.
Встреча с Маяковским в 1917 году после его вечера в Политехническом музее
После выступления дошли мы до кафе «Сиву». Такое было на Неглинной кафе «Сиву». Зашли мы в это кафе. Оно пустое было почти что в это время, каких-то два столика было занято, и оно было полутемное. Мы заказали что-то, кофе, кажется. И вот стали друг другу рассказывать эти несколько лет. Он мне сказал: «В моей жизни есть женщина, она рыжая, она еврейка. И я дружен с ее мужем». Вот это его формулировка была. Я сказала, что я второй раз замужем. Тогда он обернулся и сказал: «/нрзб/ плохой привычки часто разводиться. Два раза — уже хватит». Просто пошутил. Он рассказал все эти годы очень конспектно, как будто мы никогда не расходились. Он говорит: «Помните, как мы сидели на Иване Великом?»
В. Д. Но разговор шел на «вы»?
Е. Л. На «вы» шел разговор. Потом он меня проводил домой. Как это бывает в юности, почему-то на следующий день мы встретились опять. И потом встретились опять. И стали встречаться каждый день.
В. Д. Вот как!
Е. Л. Да. И стали встречаться каждый день. И как-то за чашкой кофе у меня дома Володя говорит: «Я тебя любил, когда я был мальчишкой. Я тебя все еще люблю, конечно». Тогда я поняла, что я на это отвечаю. На следующий день я мужу сказала, что я с ним расхожусь. И вот тут Маяковский вошел в мою жизнь.
В. Д. Ах, вот даже как!
Е. Л. Да. Я вам скажу, не хочу скрывать, это были месяца счастья. Маяковский умел, когда хотел, давать счастье. Как во сне, была зима, с его выступлениями, китайские тени мы с ним делали, ходили по Москве, бесконечные прогулки по сугробам, и были в чаду.
Муж принял это очень дружески, как взрослый человек. Он мне сказал: «Знаешь что, останемся друзьями. Это увлечение долго не продолжится, за ураган замуж не выходят». И он был прав, конечно.
Когда я сказала Маяковскому, что я с мужем, конечно, порвала, что я ему все сказала… Но надо вам сказать, что когда Маяковский с моим мужем встречался, то они оба кланялись, они снимали шляпы и раскланивались. Так сказать, никакой вражды проявлено не было. И вот весной, была прекрасная ранняя весна…
В. Д. Это уже 18-го года?
Е. Л. 18-го года. Мы должны были встретиться с Маяковским, как мы каждый день встречались, на Кузнецком мосту. И все вечера, кроме тех, в которые он был занят со своими выступлениями, обыкновенно мы проводили вместе. Без всяких ревностей, без всяких сцен, спокойно и хорошо все это шло. И утром этого дня я прочла в газете маленькую заметку, что в Москву возвращается Брик с супругой [Брики не жили раньше в Москве, поэтому речь могла идти не о возвращении, а о приезде. И Лиля Юрьевна действительно приехала для съемок в киноленте «Закованная фильмой», сценарий для которой Маяковский написал в первой половине мая 1918 г. — Прим. ред.]. Они жили в это время в Ленинграде.
В. Д. В Петербурге.
Е. Л. Да.
В. Д. А это сообщалось в газете?
Е. Л. В газете была маленькая заметочка: «Возвращается Осип Максимович Брик с супругой». Как сейчас помню, маленьким шрифтом была в газете заметочка. Я утром пила кофе. Меня это так кольнуло. Я поняла, что в мой покой что-то врывается. Я пошла на Кузнецкий мост. Мы встретились с Маяковским недалеко от Лубянки, против дома, где я родилась, и я говорю: «Володя, я сегодня в газете прочла, что Брики возвращаются». «Да, — говорит, — сегодня утром получил от них письмо. Они приезжают завтра». А я человек, может, и резкая, но я люблю ясные ситуации. Я говорю: «Вот видишь, Володя, я тогда очень просто покончила со своими личными делами. Я совершенно свободна. Теперь твое дело решать твою и нашу судьбу». Тогда он мне сказал: «Я с ними расстаться не могу». Я говорю: «Я понимаю, и я ухожу из твоей жизни. Не будет ни сцен, ни слез, ни упреков. Была зима, было каких-то восемь месяцев, было счастье. Не в каждой человеческой жизни это бывает». Тогда он сказал: «Но ведь они же приезжают только завтра. Сегодняшний день еще наш». А я ему сказала: «Знаешь что, Володя, я сейчас храбрая, а вот буду ли я храбрая завтра, я не знаю. И я предпочитаю с тобой покончить сейчас. Будь счастлив, не бойся никаких упреков, не бойся слез. Я не с собой кончаю, и никаких истерик не устраиваю. Было хорошо — за хорошее спасибо». Тогда он мне ответил: «Значит, ты меня никогда не любила». Я говорю: «Ну, это нелогичный вывод, совершенно нелогичный, потому что любовь не в том, чтобы устраивать сцену, кататься, не в том она». Тут же повернулась и по той же Лубянке пошла к себе домой на Сухареву площадь.

Евгения Александровна Ланг
Фото: предоставлено фондом «Устная история»
Я за несколько дней до этого купила очень хороший череп. Установила этот череп, наставила на него электрическую лампу и стала делать этюды черепа, потому что мне его нужно было изучать, потому что у черепа всего есть тридцать шесть наклонов. И эти тридцать шесть наклонов черепа стала изучать. Спать не хотелось. Выпила я чашку кофе черного. Няня принесла мне черный кофе и сказала: «Ну что, у тебя кончилось с Владимиром Владимировичем?» Я говорю: «Кончилось, нянечка, и не будем об этом больше говорить», — и продолжила работать.
В три часа ночи позвонил Маяковский: «Ты что делаешь?» Я говорю: «Я работаю, рисую». Тогда он спросил: «Что рисуешь?» Я говорю: «Вот тут череп, который мы с тобой вместе ходили покупать». Потому что мы с ним вместе ходили этот череп покупать. Мы его купили у Надёжина на Лубянке. Тогда он мне сказал: «Я все равно тебя жду. Я все равно тебя буду всегда ждать». Я говорю: «Володя, все сказано. Ты выбор сделал, и я его приняла. Будь счастлив!» — и положила трубку. Вот как это все кончилось. После этого были невероятные случаи, совершенно невероятные.
В. Д. Продолжайте.
Работа с городским пространством
Е. Л. А я уехала через год, потому что я стала принимать всякие меры, чтобы уехать. А в этот год испанка была, и работала я, да еще тут декорировала площадь Дзержинского, Лубянскую площадь. Я вообще работала много.
В. Д. Это что, в первую годовщину?
Е. Л. Да, в первую годовщину я декорировала Лубянскую площадь.
В. Д. Простите, а с Маяковским вы в это время не встречались?
Е. Л. Мы больше весь год не встречались. А когда у меня уже были билеты на руках…
В. Д. Простите, а когда декорировали площадь, по-моему, он тоже принимал участие.
Е. Л. Нет, никакого. Он пришел тогда к нам в мастерские.
В. Д. Какие? Вхутемасовские уже?
Е. Л. Нет. Это была мастерская на Лубянской площади. Очень странным образом это было в зале гимназии, которую я окончила, в которую я маленькая бегала. Вот в этом зале мы писали эти громадные плакаты. Я написала громадный транспарант, Маркса мы писали, Ленина, и потом…
В. Д. Троцкого…
Е. Л. Я Троцкого не писала. Я писала Маркса и Ленина. А другой такой, Дима, был из Большего театра декоратор, тот писал других. И хорошо мы ее отдекорировали, получили благодарности, все очень хорошо.
В. Д. Фонтан тогда был в центре.
Е. Л. Да-да, фонтан. Хороший был фонтан.
Кафе «Питтореск» и встречи с Владимиром Дуровым
Е. Л. Мы очень часто с ним встречались в кафе, в «Питтореске», часто там обедали, и даже к обеду он приглашал своих друзей. Даже помню, кто были эти друзья, потому что я с ними тоже дружила. Одним из этих друзей был Дуров.
В. Д. Дуров?
Е. Л. Дуров был. И мы у Дурова с Маяковским бывали зимой.
В. Д. У Владимира Дурова? У циркача?
Е. Л. У циркача, да.
В. Д. «Уголок Дурова».
Е. Л. Да, был «Уголок Дурова», и мы туда с Маяковским ездили.
Дуров за нами приезжал в санках, запряженных верблюдом. И когда мы ехали потом по Кузнецкому мосту (верблюд, Дуров, я и Маяковский), то мальчишки бежали и орали: «Верблюююд! Маякооовский! Дуууров!» Всех узнавали. Вот под такие крики московские и ехали. А красивый был такой, пушистый, верблюд, вычесанный.
<…>
В. Д. И вы в «Питтореске» часто обедали?
Е. Л. Очень часто. Мы обедали с Бурлюком, с Дуровым, и художник был… Художника этого еще висит картина у Людмилы Владимировны. Пейзаж. Как его фамилия? Там у нее в комнате висит пейзаж грузинский этого художника.
В. Д. Не знаю.
Е. Л. Вот этот художник еще был. Очень веселые, приятные были обеды. Дуров во время этого обеда фокусы показывал. Такие фокусы, что один раз я не заметила, как он с меня туфлю снял, и она оказалась в кармане у Бурлюка. Конечно, хохот был страшный.

Портрет Д.Д. Бурлюка. 1918 год
Фото: sites.utoronto.ca/tsq/10/alekseeva10.shtml
Октябрьская революция
Е. Л. У меня за эти дни седая прядь появилась вот тут. Да, очень страшное мы пережили на Сухаревке. Я не трус, но очень мы пережили страшное.
В. Д. Там бои были большие?
Е. Л. И бои, и наш дом был оккупирован, и все мужчины нашего дома были приговорены к расстрелу. Потом все это уладилось как-то, но все висело на ниточке прямо. И вот к утру у меня была серебряная…
В. Д. Сухаревка была на территории красных или белых?
Е. Л. У нас так. У нас была направо булочная и налево булочная. И для того, чтобы идти в одну булочную, мы должны были баррикады белых переходить, а чтобы в другую — баррикады красных.
В. Д. А вы жили на территории чьей?
Е. Л. Мы жили между. Две булочные были за двумя баррикадами. Я в эти булочные бегала с нашей швейцарихой. Обе были молоденькие, обе были хорошенькие — и нас пропускали.
В. Д. Вот что.
Е. Л. А потом на наш дом был донос. Черт ее знает, какая-то выгнанная кем-то кухарка что-то донесла. У нас был обыск. Все мужчины нашего дома, и мой муж тоже, были арестованы, и нам был прочитан смертный приговор на них. Понимаете, весело было. И когда приехал Маяковский… Я помню, я так сняла шляпу, и он увидел вот здесь белую прядь. Он сказал: «Да, я все понял».
Памятники на час
Е. Л. Я Володю хорошо знала, Гольцшмидта. Я его прозвала «бычок Апис». Священный бычок египетский. Был в голубой шелковой блузе, с громадными мускулами.
В. Д. Скажите, он шарлатан был или все же человек искусства?
Е. Л. Силач. Никакого искусства там не было. Силач. Володя Гольцшмидт был водителем или шофером поезда на Риго-Орловской железной дороге. У него действительно золотистые волосы были, очень красивый, с греческим таким профилем, с громадными плечами. И его выдвигал Бурлюк. А вот Бурлюк был импресарио по природе. Он с ним разговорился и говорит: «Знаешь что, брось свое водительство поезда, приезжай в Москву. Я из тебя сделаю тип современного человека». Он ему придумал эту голубую блузу. На блузе вот так ласточка была поперек. Тут у него были золотые браслеты, мускулы были совершенно колоссальные, золотые волосы. Был он полный. Хороший парень, преданный Маяковскому и Бурлюку очень. Хороший, силач был.
В. Д. Как он памятник себе поставил на Театральной площади.
Е. Л. Ну, памятник этот помню. Они же все ставили.
В. Д. Он простоял несколько часов.
Е. Л. Да-да-да. Там много памятников стояло несколько часов. Там же все себе памятники ставили. Тогда это мода была.
Вертинского слушать
Е. Л. Ну, куда мы ходили очень часто с Маяковским? Это вас очень удивит — мы ходили Вертинского слушать.
В. Д. Да что вы говорите!
Е. Л. Да, очень часто. Он очень любил. Мы с ним ходили в Петровские линии. Там выступал Вертинский. Мы с ним сидели, слушали Вертинского.
В. Д. Он еще здесь был?
Е. Л. Да.
В. Д. Тогда еще немногие уехали.
Е. Л. Нет. Вот мы тогда слушали Вертинского с ним. Потом был такой француз, который с французским акцентом русские частушки какие-то пел, тоже здесь подвизался, парижанин какой-то. Вот всё это ходили слушать. Мало куда мы там ходили.
Е. Л. Это был март, первые дни апреля. А потом сразу стал, как говорил тогда Бурлюк, фиолетовый апрель. Апрель стал чудесный! Как он говорил, что все в сиреневом цвете: и лица, и люди, и небо — все стало фиолетовым. Апрель вдруг после всех этих снежных бурь был чудесный. И вот тут я с Бурлюком часто виделась, и вот тут он задумал эту нелепую историю, что я с ним в Америку уеду.
Картины Бурлюка на улице
В. Д. А вот это развешивание картин на улицах вы не помните?
Е. Л. Помню, помню. Это было зимой, потому что мы мимо этих картин на Кузнецком мосту проезжали как раз на верблюде, на санках.
В. Д. На Кузнецком мосту?
Е. Л. Да. Эти картины висели над порталом банка. Тогда был на углу банк.
В. Д. Он и сейчас есть.
Е. Л. Не знаю, коммерческий банк или какой там банк.
В. Д. И сейчас есть. На углу с Рождественкой?
Е. Л. На углу с Рождественкой.
В. Д. Если идти от центра, то правый угол?
Е. Л. Вот, правый угол.
В. Д. Где же там может картина висеть?
Е. Л. А над порталом. Бурлюк влез на лестницу и повесил картины. Выглядело это дико совершенно. И кто-то на это очень обозлился, и туда стали пули пускать. Все эти картины были испещрены пулями. Я с Дуровым и с Маяковским подъезжала на верблюде на санках смотреть, как расстреляли картины бурлюковские. Вот это я очень хорошо помню, как три картины там висели, разных размеров, между прочим, абсолютно нелепые, какие-то квадраты, треугольники. Вообще все это было очень дурного тона дурачество. Вот интересно еще одно.
Когда мы подъехали к банку и стали это смотреть, проходил крестьянин, крепкий такой мужик, посмотрел, что мы смотрим, и сказал: «Забавляются барчуки».
Вот он что об этих футуристах и о картинах сказал. Я сказала: «Володя, слышишь, что он сказал? „Забавляются барчуки”».
В. Д. А он как среагировал, не помните?
Е. Л. Не помню. Во всяком случае, вы знаете, что Володя никогда себе ни кошек, ни собак, ни цветков на лоб не клеил. Вы это знаете?
В. Д. Да, лицо…
Е. Л. Потому что он мне слово дал. Я говорю: «Володя, как только у тебя на лбу кошка или что-нибудь другое будет — кончено. Я тебя больше не знаю». И он мне дал слово, что никаких кошек и ничего у него не будет.
<…>
В. Д. Но его поэзией не жили. А потом, после его смерти, вы как сейчас, в его стихах… Вот у вас собрание сочинений…
Е. Л. Я не могу читать его. Мне больно. Понимаете. Вот некоторые стихи живут у меня, но открыть книгу теперь… Я говорю, я пережила. Вот у меня стоит полное собрание Маяковского — я его почти никогда не открываю. Для меня это очень тяжелое прошлое, очень тяжелое, и я волнуюсь, у меня поднимается давление… Мне это сейчас, по моему возрасту и состоянию здоровья, больше не нужно.
Возвращение в Москву
В. Д. Ну, хорошо, сейчас, но ведь у вас же была большая жизнь… Вы в Париже о нем думали?
Е. Л. В Париже у меня было два периода. Первое время после его смерти я решила все это совершенно исключить из своей жизни. У меня ни одной книги Маяковского не было. Я не позволяла о нем говорить при себе, я ничего не хотела.
В. Д. О смерти-то его вы узнали там? Как это было? Как вы узнали о смерти Маяковского?
Е. Л. Я много лет совершенно не хотела больше об этом думать. Жила своей профессиональной, своей личной жизнью, решила, что это прошлое, которое отошло, к которому возвращаться больно и не хочу. И вот через двадцать пять лет появилось неотразимое желание написать его портрет, потому что когда я закрывала глаза, то я его просто видела. И я села за мольберт и написала этот портрет, который вы видели. Вот я его написала так, просто хотелось.
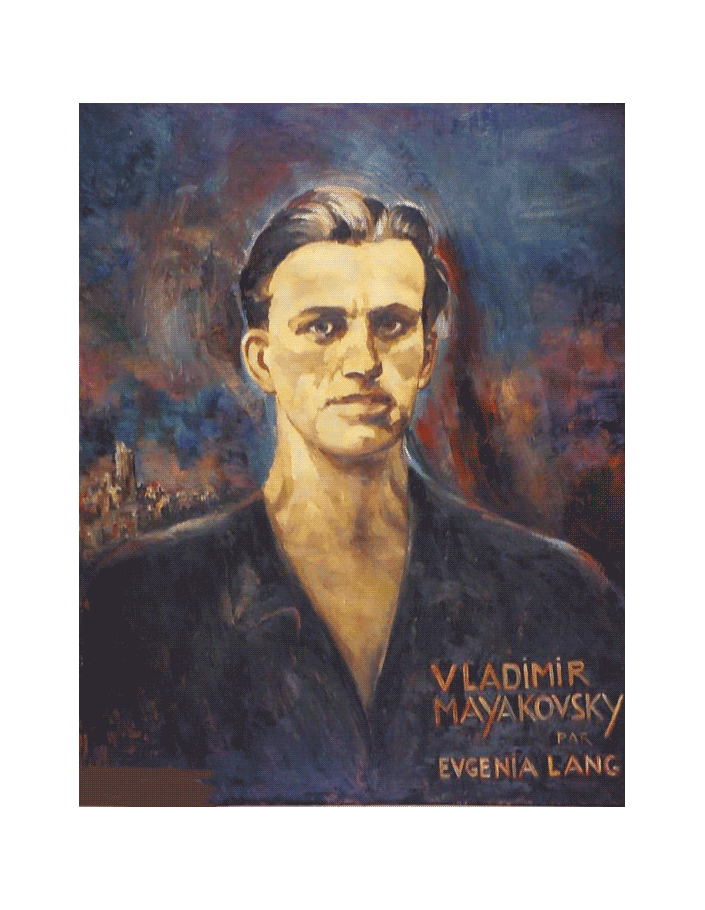
Евгения Ланг. Портрет Владимира Маяковского
Фото: www.muzeimayakovskogo.ru
