Токвиль и Шовен
Пять книг чтобы понять Францию
Алексис де Токвиль. Старый порядок и Революция. М., 1997. Перевод М. Федоровой
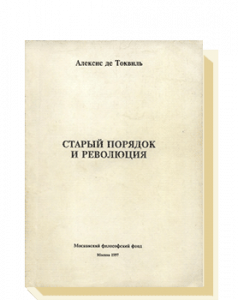 Французская революция, начавшаяся в 1789 году со взятия Бастилии, — событие, важность которого для истории Франции, как говорится, невозможно переоценить. Естественно, о ней очень скоро начали писать — и в многочисленных мемуарах, и в исторических сочинениях. Но автор книги «Старый порядок и Революция» (1856) занят не изложением событий, а концептуальным анализом причин, благодаря которым Революция стала возможной. Его интересует не как, а почему она произошла. Собственно говоря, до самой Революции в книге дело не доходит — речь идет о предшествующих эпохах. Для русскоязычных читателей в этой книге особенный интерес представляет одна глава: «Каким образом в середине XVIII столетия литераторы сделались во Франции самыми влиятельными политиками и к чему это привело?» В абсолютистском государстве, каким была дореволюционная Франция, никто, кроме чиновников, не имел доступа к управлению государством, и люди, лишенные политического опыта, охотно прислушивались к абстрактным теориям, сочиненным в соответствии с требованиями разума, но оторванным от реальности. Теории благородные, но воплощение их на практике привело не к свободе, а к еще большему укреплению центральной, деспотической власти. Мы привыкли считать, что литературоцентричной страной, где писатели заменяли политиков, философов, социологов, была в XIX веке только Россия. Чтение Токвиля помогает скорректировать эту веру в нашу исключительность. Между прочим, Токвиль сходным образом корректировал и претензии на исключительность, имевшиеся у его соотечественников. В своей книге он, автор знаменитого труда «Демократия в Америке» (1835–1840), напоминает, что всеобщее равенство первыми провозгласили вовсе не французские создатели Декларации прав человека 1789 года, а американские отцы-основатели.
Французская революция, начавшаяся в 1789 году со взятия Бастилии, — событие, важность которого для истории Франции, как говорится, невозможно переоценить. Естественно, о ней очень скоро начали писать — и в многочисленных мемуарах, и в исторических сочинениях. Но автор книги «Старый порядок и Революция» (1856) занят не изложением событий, а концептуальным анализом причин, благодаря которым Революция стала возможной. Его интересует не как, а почему она произошла. Собственно говоря, до самой Революции в книге дело не доходит — речь идет о предшествующих эпохах. Для русскоязычных читателей в этой книге особенный интерес представляет одна глава: «Каким образом в середине XVIII столетия литераторы сделались во Франции самыми влиятельными политиками и к чему это привело?» В абсолютистском государстве, каким была дореволюционная Франция, никто, кроме чиновников, не имел доступа к управлению государством, и люди, лишенные политического опыта, охотно прислушивались к абстрактным теориям, сочиненным в соответствии с требованиями разума, но оторванным от реальности. Теории благородные, но воплощение их на практике привело не к свободе, а к еще большему укреплению центральной, деспотической власти. Мы привыкли считать, что литературоцентричной страной, где писатели заменяли политиков, философов, социологов, была в XIX веке только Россия. Чтение Токвиля помогает скорректировать эту веру в нашу исключительность. Между прочим, Токвиль сходным образом корректировал и претензии на исключительность, имевшиеся у его соотечественников. В своей книге он, автор знаменитого труда «Демократия в Америке» (1835–1840), напоминает, что всеобщее равенство первыми провозгласили вовсе не французские создатели Декларации прав человека 1789 года, а американские отцы-основатели.
Роже Шартье. Культурные истоки французской революции. М., 2001. Перевод О. Гринберг
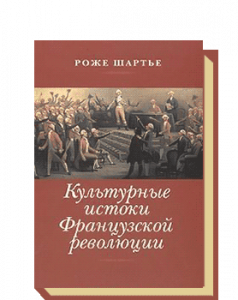 Идеи Токвиля получили продолжение в трудах ученых ХХ века. В 1933 году Даниэль Морне выпустил книгу «Интеллектуальные истоки французской революции» с основным тезисом — «Французскую революцию в основном предопределили идеи». Иначе говоря, труды философов-просветителей, распространяясь все шире и шире, подготовили французскую революцию. Как пел Гаврош в романе «Отверженные», все это по вине Вольтера, все это по вине Руссо. Историк книги и чтения Роже Шартье задается вопросом: так ли верна эта ставшая общепринятой идея? Нет ли здесь такого прочтения истории, при котором весь XVIII век рассматривается в свете его неминуемого финала — Революции? Может быть, предполагает Шартье, дело не в том, что Просвещение породило Революцию, а в том, что Революция «придумала» Просвещение и выстроила его идеальный образ, ради того чтобы доказать свое законное и благородное происхождение, оправдать себя и переложить ответственность на своих прародителей? «Могут ли книги произвести революцию?» — так называется одна из глав книги Шартье. Ответ таков: сами по себе, своим содержанием — нет, не могут. Но да, могут, если рассматривать чтение книг в рамках нового, десакрализующего мышления, сложившегося в течение XVIII века, — критического мышления, чуждого слепому повиновению авторитетам.
Идеи Токвиля получили продолжение в трудах ученых ХХ века. В 1933 году Даниэль Морне выпустил книгу «Интеллектуальные истоки французской революции» с основным тезисом — «Французскую революцию в основном предопределили идеи». Иначе говоря, труды философов-просветителей, распространяясь все шире и шире, подготовили французскую революцию. Как пел Гаврош в романе «Отверженные», все это по вине Вольтера, все это по вине Руссо. Историк книги и чтения Роже Шартье задается вопросом: так ли верна эта ставшая общепринятой идея? Нет ли здесь такого прочтения истории, при котором весь XVIII век рассматривается в свете его неминуемого финала — Революции? Может быть, предполагает Шартье, дело не в том, что Просвещение породило Революцию, а в том, что Революция «придумала» Просвещение и выстроила его идеальный образ, ради того чтобы доказать свое законное и благородное происхождение, оправдать себя и переложить ответственность на своих прародителей? «Могут ли книги произвести революцию?» — так называется одна из глав книги Шартье. Ответ таков: сами по себе, своим содержанием — нет, не могут. Но да, могут, если рассматривать чтение книг в рамках нового, десакрализующего мышления, сложившегося в течение XVIII века, — критического мышления, чуждого слепому повиновению авторитетам.
Бронислав Бачко. Как выйти из Террора? Термидор и революция. М., 2006. Перевод Д. Бовыкина
 Книги Токвиля и Шартье о том, откуда взялась французская Революция. Бронислав Бачко (1924–2016) размышляет о другом: как французы пытались с Революцией покончить. Бачко — уроженец Польши, в первые послевоенные годы член ПОРП и убежденный марксист, затем пересмотревший свои взгляды, обвиненный властями коммунистической Польши в «ревизионизме и сионизме» и получивший возможность продолжать работу только в эмиграции. Для него проблемы «выхода из Террора» носили отнюдь не сугубо теоретический характер; он изживал коммунистические иллюзии в собственном сознании, пережил, можно сказать, свой внутренний термидор. Бачко показывает, насколько труднее изменить сознание людей, чем принятые этими людьми законы. В июне 1794 года французские депутаты принимают закон, позволяющий приговаривать обвиняемых к смерти без предварительных допросов, без выслушивания свидетелей, без участия защитников. Через полтора месяца происходит термидорианский переворот, кладущий конец якобинской диктатуре, — и те же самые депутаты восторженно приветствуют отмену этого закона. Свержение Робеспьера изменило законы, но не изменило ни мышления, ни языка тех, кто его уничтожил (вплоть до того, что по Парижу немедленно распространился слух, согласно которому Робеспьера свергли, потому что он хотел стать королем!). Чтобы «выйти из Террора», необходимо окончательно порвать с «террористическим дискурсом», в основе которого лежит постоянный поиск подозрительных и заговорщиков, покончить с системой, при которой всякий вчерашний друг и соратник может быть объявлен врагом, поскольку «враги» эти взаимозаменяемы: по образцу старых, уже разоблаченных, постоянно создаются и обличаются новые.
Книги Токвиля и Шартье о том, откуда взялась французская Революция. Бронислав Бачко (1924–2016) размышляет о другом: как французы пытались с Революцией покончить. Бачко — уроженец Польши, в первые послевоенные годы член ПОРП и убежденный марксист, затем пересмотревший свои взгляды, обвиненный властями коммунистической Польши в «ревизионизме и сионизме» и получивший возможность продолжать работу только в эмиграции. Для него проблемы «выхода из Террора» носили отнюдь не сугубо теоретический характер; он изживал коммунистические иллюзии в собственном сознании, пережил, можно сказать, свой внутренний термидор. Бачко показывает, насколько труднее изменить сознание людей, чем принятые этими людьми законы. В июне 1794 года французские депутаты принимают закон, позволяющий приговаривать обвиняемых к смерти без предварительных допросов, без выслушивания свидетелей, без участия защитников. Через полтора месяца происходит термидорианский переворот, кладущий конец якобинской диктатуре, — и те же самые депутаты восторженно приветствуют отмену этого закона. Свержение Робеспьера изменило законы, но не изменило ни мышления, ни языка тех, кто его уничтожил (вплоть до того, что по Парижу немедленно распространился слух, согласно которому Робеспьера свергли, потому что он хотел стать королем!). Чтобы «выйти из Террора», необходимо окончательно порвать с «террористическим дискурсом», в основе которого лежит постоянный поиск подозрительных и заговорщиков, покончить с системой, при которой всякий вчерашний друг и соратник может быть объявлен врагом, поскольку «враги» эти взаимозаменяемы: по образцу старых, уже разоблаченных, постоянно создаются и обличаются новые.
Жерар де Пюимеж. Шовен, солдат-землепашец. Перевод В. Мильчиной. М., 1999
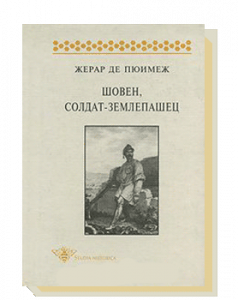 Все знают слово «шовинизм», но не всем известно его происхождение. Долгое время считалось, что произошло это слово от фамилии реального человека Никола Шовена, солдата наполеоновской армии, истового патриота. Заслуга Жерара де Пюимежа в том, что он показал — никакого реального Шовена на свете не существовало. Шовен родился из духа французской литературы, причем родился героем не положительным, а едва ли не отрицательным. Изначальный Шовен — герой популярных водевилей, деревенский простак, недавно ставший солдатом, трусливый бахвал, который любит порассуждать о национальном величии, но постоянно попадает впросак. Однако после поражения Наполеона французы так жаждали реабилитировать себя, что постепенно Шовен «возмужал» и преобразился. Да и возник он, как показывает Пюимеж, отнюдь не на пустом месте. Убеждение, что благополучие Франции зиждется на «простых людях», которые с равным успехом орудуют и плугом, и саблей (и/или ружьем) и которым чужды как разные высокоумные теории, так и буржуазная страсть к накопительству, — это убеждение имеет очень глубокие корни. Глубокие — и страшные, так как выясняется, что общественное предназначение Шовена, солдата-землепашца, состоит в том, чтобы пасть за отечество и оплодотворить своей кровью родную почву, ту самую почву, которая в конце XIX века легла в основу французского национализма. Миф о Шовене — это мечта о «единой и неделимой» деревенской Франции с единым народом и единой, всех удовлетворяющей властью. Но, как свидетельствует история Франции XX и XXI веков, мечта эта так и осталась мечтой.
Все знают слово «шовинизм», но не всем известно его происхождение. Долгое время считалось, что произошло это слово от фамилии реального человека Никола Шовена, солдата наполеоновской армии, истового патриота. Заслуга Жерара де Пюимежа в том, что он показал — никакого реального Шовена на свете не существовало. Шовен родился из духа французской литературы, причем родился героем не положительным, а едва ли не отрицательным. Изначальный Шовен — герой популярных водевилей, деревенский простак, недавно ставший солдатом, трусливый бахвал, который любит порассуждать о национальном величии, но постоянно попадает впросак. Однако после поражения Наполеона французы так жаждали реабилитировать себя, что постепенно Шовен «возмужал» и преобразился. Да и возник он, как показывает Пюимеж, отнюдь не на пустом месте. Убеждение, что благополучие Франции зиждется на «простых людях», которые с равным успехом орудуют и плугом, и саблей (и/или ружьем) и которым чужды как разные высокоумные теории, так и буржуазная страсть к накопительству, — это убеждение имеет очень глубокие корни. Глубокие — и страшные, так как выясняется, что общественное предназначение Шовена, солдата-землепашца, состоит в том, чтобы пасть за отечество и оплодотворить своей кровью родную почву, ту самую почву, которая в конце XIX века легла в основу французского национализма. Миф о Шовене — это мечта о «единой и неделимой» деревенской Франции с единым народом и единой, всех удовлетворяющей властью. Но, как свидетельствует история Франции XX и XXI веков, мечта эта так и осталась мечтой.
Филипп Арьес. Время истории. М., 2011. Перевод М. Неклюдовой
 Филипп Арьес (1914–1984) вырос, по его собственному выражению, в роялистском «оазисе». Его окружение составляли «наследники Шовена». Но Арьес не остался с ними на всю жизнь — книгу открывает автобиографический очерк, который рассказывает об этом разрыве. Труд Арьеса очень французский не только потому, что объясняет, как по-разному строились во Франции исторические повествования в Средние века, в XVII веке или в веке XIX, но еще и потому, что в собственной истории автора присутствуют две постоянно соперничающие Франции. Одна — Франция консервативная и националистическая, другая — Франция либеральных интеллектуалов. И разговор о типах исторического анализа Арьес ведет, помня об этой двойственности. Среди разновидностей истории, описанных Арьесом, «научная» история, истории марксистская и консервативная, и, наконец, история, которую он называет «экзистенциальной». Изъяны «научной истории», «тщательно отгороженной от настоящего» и интересующейся прежде всего «фактами», Арьес определяет так: «Когда я думаю о своем времени, о том, что происходит вокруг меня, мне нет нужды детализировать элементы — факты — этой Истории. Я прекрасно и непосредственно чувствую, что это время существует, что оно обладает для меня важнейшей, сущностной реальностью, хотя я не знаю половины фактов, которые завтрашний историк будет считать необходимыми для ее исчерпывающей реконструкции». История не сводится к череде фактов. Но ее не объяснить ни движением огромных масс (марксизм), ни свойствами «человека вообще», не зависящего от нравов той или иной эпохи (консервативная история). Остается история «экзистенциальная»: в этом случае историк изучает ментальные структуры людей прошлых эпох, при этом не скрывая своей принадлежности к современному миру. Этой истории, которую развивали Марк Блок, Люсьен Февр и другие представители школы «Анналов», Арьес явно отдает предпочтение. И на ее принципах основана подготовленная под его общей редакцией пятитомная «История частной жизни» (1985–1987; русский перевод первых трех томов вышел в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2014–2016 гг.). Частная жизнь исследуется по преимуществу французская, но пятый, последний, том заканчивается главой об иностранных образцах, а в книге принимали участие английские и американские историки — проявление национальной открытости, которую бы наверняка не одобрил Шовен.
Филипп Арьес (1914–1984) вырос, по его собственному выражению, в роялистском «оазисе». Его окружение составляли «наследники Шовена». Но Арьес не остался с ними на всю жизнь — книгу открывает автобиографический очерк, который рассказывает об этом разрыве. Труд Арьеса очень французский не только потому, что объясняет, как по-разному строились во Франции исторические повествования в Средние века, в XVII веке или в веке XIX, но еще и потому, что в собственной истории автора присутствуют две постоянно соперничающие Франции. Одна — Франция консервативная и националистическая, другая — Франция либеральных интеллектуалов. И разговор о типах исторического анализа Арьес ведет, помня об этой двойственности. Среди разновидностей истории, описанных Арьесом, «научная» история, истории марксистская и консервативная, и, наконец, история, которую он называет «экзистенциальной». Изъяны «научной истории», «тщательно отгороженной от настоящего» и интересующейся прежде всего «фактами», Арьес определяет так: «Когда я думаю о своем времени, о том, что происходит вокруг меня, мне нет нужды детализировать элементы — факты — этой Истории. Я прекрасно и непосредственно чувствую, что это время существует, что оно обладает для меня важнейшей, сущностной реальностью, хотя я не знаю половины фактов, которые завтрашний историк будет считать необходимыми для ее исчерпывающей реконструкции». История не сводится к череде фактов. Но ее не объяснить ни движением огромных масс (марксизм), ни свойствами «человека вообще», не зависящего от нравов той или иной эпохи (консервативная история). Остается история «экзистенциальная»: в этом случае историк изучает ментальные структуры людей прошлых эпох, при этом не скрывая своей принадлежности к современному миру. Этой истории, которую развивали Марк Блок, Люсьен Февр и другие представители школы «Анналов», Арьес явно отдает предпочтение. И на ее принципах основана подготовленная под его общей редакцией пятитомная «История частной жизни» (1985–1987; русский перевод первых трех томов вышел в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2014–2016 гг.). Частная жизнь исследуется по преимуществу французская, но пятый, последний, том заканчивается главой об иностранных образцах, а в книге принимали участие английские и американские историки — проявление национальной открытости, которую бы наверняка не одобрил Шовен.