«Русской культуре не стоит бояться политкорректности»
Интервью с Игорем Гулиным
— Все интервью с тобой так или иначе сводятся к теме кризиса литературы. Слова «труп» и «мертвечина» появляются уже даже в заголовках...
— Мне вообще-то очень надоела роль вестника смерти. Эта позиция возникла из-за недовольства современной литературой — ощущения, что та как-то недостаточна, не дает того, чего бы хотелось. Но в этом недовольстве для меня было много вовлеченности, которой сейчас скорее нет. Я слежу за тем, что происходит, но с большей дистанции и немного вполглаза (а писать предпочитаю о чем-то не вполне современном). Но кое-что этот барьер (полу)безразличия конечно же пробивает.
— А почему пропала вовлеченность?
— Это что-то вроде усталости. Мне было важно чувствовать себя частью некоего поля современной литературы, говорить изнутри него, указывать на него тем, кто не знает. А потом что-то сместилось. Сейчас, когда я говорю о современном письме, пытаюсь наоборот говорить откуда-то снаружи (хотя, где это «снаружи», я сам толком не знаю).
— Впечатлило ли тебя за последние месяцы что-нибудь в плане читательского опыта?
— Из прозы мне очень понравился роман Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия». Это то, чему я обычно не очень доверяю: нарративная вещь с сюжетами и собственно персонажами (причем персонаж, которому уделено больше всего места, — средневековая принцесса). Мне нравится, что эту книгу невозможно представить как актуальную, сказать, что ее «надо» прочитать. В ней есть независимость, почти заносчивость. Поэтому и возникает чувство настоящей радости от текста, плохо совместимое с императивом актуальности.
Стихов, как обычно, больше. Очень важными для меня оказались новые сборники Анны Глазовой («Лицевое счисление») и Александра Скидана («Контаминация»). Они меня воодушевили противоположными вещами: книга Глазовой — своей уверенностью в аналитических и лирических силах поэзии, а книга Скидана — наоборот, переживанием кризиса этих сил, перформансом поломки. Из новых поэтов мне очень нравится Инна Краснопер (недавно вышел номер «Носорога», где мы опубликовали ее подборку, поэтому я сжульничаю и скажу, что это недавнее впечатление). В молодой поэзии сейчас много тяжеловесной серьезности и такой же тяжелой шутливости. У Инны есть особая свобода — свобода не анархическая, но переживаемая как абсолютно личная система движений. От ее стихов возникает чувство танца человека с языком. Ну и конечно, событие — выход третьего сборника лейтенанта Пидоренко В.П. Когда читаешь его стихи потоком, иногда кажется, что автор немного устал, но вот выходит книга — и понимаешь: все так же сияет наше черное солнышко.
— Признаюсь, я не большой любитель современной поэзии, но стихи поэзии лейтенанта Пидоренко наряду с фейсбук-заклинаниями Дедужко Хоссана [проект поэта и переводчика Валерия Нугатова. — Прим. ред.] кажутся мне наиболее интересными явлениями в этой области. Полагаю, эти проекты можно назвать «паралитературными» — не в том смысле, что они низкопробные, а в том, что они разворачиваются не столько внутри литературы, сколько «около» нее. Они существуют прежде всего в пространстве современных медиа — в фейсбуке и телеграме, одна из их важных черт — молниеносное реагирование на «шум и ярость» повестки дня, которой мы все, увы, так или иначе оккупированы. Что ты думаешь о такой «паралитературности»? И нет ли в этом того самого «Надо быть абсолютно современным» Артюра Рембо?
— Забавно: один приятель, который очень внимателен к идее современности и ее требованиям, меня пару недель назад спросил: «Как тебе может нравиться Пидоренко? Это же неореакция в чистом виде». Я в общем-то понимаю оба этих подхода. Та паралитература, о которой ты говоришь, может казаться и авангардной, и консервативной. Но, на мой взгляд, это не совсем правильная постановка вопроса. Точнее, оба подхода неточно описывают производимые этой паралитературой эффекты.
У нас есть усталость от профессиональной словесности, ощущение ее не то чтобы неактуальности — скорее неадекватности. Это ощущение совсем не новое, наоборот, оно переживается как утомительное дежавю. О том же, к примеру, часто говорил недавний юбиляр Дмитрий Александрович Пригов (адекватность — как раз одно из его любимых словечек). Но концептуализм, несмотря на игру с «бедностью» средств, не противопоставлял себя профессиональным, модернистским по природе, литературе и искусству. Наоборот, он стал их воплощением — наиболее современным, самым артикулированным и по-настоящему профессиональным (отсюда разногласия с концептуализмом Николая Байтова, автора, которого мы с тобой оба любим, и провозглашенная им в 1990-х эстетика «не-Х»). Литературный постмодернизм не преодолел кризис модернистской позиции писателя-профессионала, выразителя новых и нужных обществу идей, но отложил этот кризис, нажал на «снуз». Сейчас мы этот «снуз» хорошо чувствуем.
Ответ, который культура дает на ощущение такого кризиса, — еще менее новый. Его описали формалисты в 1920-х: когда привычные формы письма и бытования литературы начинают выглядеть устаревшими, внимание обращается к тому, что до этого находилось где-то на периферии — к маргинальным и непрофессиональным способам производства текстов, паралитературе в том или ином виде. Для формалистов источником этого «пара» были дневники, разного рода человеческие документы, фактография. Для нашей эпохи это все, что происходит в компьютере, — включая коды, алгоритмы и прочие технические штуки, в которых я мало понимаю. Но в первую очередь это, конечно же, социальные сети. Пару лет назад я писал о том, как современная поэзия пытается освоить и присвоить механику соцсетей. Суть этой механики в поточности: невозможно произвести привилегированное высказывание, потому что статус у любого поста — хоть про котиков, хоть про революцию, хоть про Троицу — один и тот же. И потому же почти невозможно произвести актуальное, «современное» высказывание: актуальность мимолетна и мгновенно сменяется другой актуальностью.
Но есть вещь, которая в социальных сетях работает как заноза, повторяется, возвращается, подгнивает, но не исчезает — это мем. И Дедужко, и Пидоренко — это авторы-мемы. В их практике важна бесконечная серийность, важна свойственная мемам инклюзивность-эксклюзивность: это как бы для своих (надо знать устройство и контекст шутки), но и для всех (нет никакой элитарности). У того, что они делают, есть особенный и тоже свойственный мему статус — вездесущего едкого комментария на полях всего остального текста интернета («едодой!»). Мемы обычно черпают свой строительный материал из разных областей низовой культуры — вроде видеоигр (которые сейчас, наоборот, стали источником подчеркнуто интеллектуализированных практик). Однако в поэзии лейтенанта Пидоренко такой областью «отверженного», исключенного, оказывается высокая традиция (прежде всего, в своем символистском изводе). Что шепчет этот призрак традиции, пожаловавший к нам «с черных мельниц сатаны»? То, что и положено призракам: связь времен прервалась, мир перевернулся, на престолах не наследники, а самозванцы, «парапоэзия» и «настоящая поэзия» поменялись местами. Забавно, что это классическая идеология графомании, но она никогда не была средством такого масштабного и талантливого эксперимента. Можно задействовать энергию «паралитературы», чтобы оживить литературу профессиональную, можно ускользать в «пара-» и им наслаждаться, но в стихах Пидоренко, как и в акциях Дедужки, есть угроза этим границам, и это отлично.
 — В конце 2019 года вышел второй номер бюллетеня «Термит», посвященный неореакции. В его программных статьях говорилось, что трансгрессия и троллинг сейчас стали неореакционными стратегиями и чуть ли не автоматически делают нас приспешниками Трампа. Как ты относишься к такой позиции и что ты имел в виду, когда сказал, что понимаешь, почему некоторые считают Пидоренко реакционным автором?
— В конце 2019 года вышел второй номер бюллетеня «Термит», посвященный неореакции. В его программных статьях говорилось, что трансгрессия и троллинг сейчас стали неореакционными стратегиями и чуть ли не автоматически делают нас приспешниками Трампа. Как ты относишься к такой позиции и что ты имел в виду, когда сказал, что понимаешь, почему некоторые считают Пидоренко реакционным автором?
— Я, честно говоря, не читал этот журнал, но интуитивно понимаю, о чем речь. Есть идея о том, что трансгрессор и тролль Трамп — это реакция на кризис леволиберальной политики идентичности. В искусстве можно увидеть похожие процессы, и как раз на примере поэзии они хорошо заметны. Русская новая поэзия 2000-х и 2010-х годов во многом была как раз «поэзией идентичности». Одной из главных ее ставок было предоставление голоса тем, кто его лишен — говорение от лица других. Это мог быть кто угодно — собаки, роботы и т. д., — но представительство за этих молчащих в значительной степени легитимизировало поэтическую деятельность. Сейчас многие чувствуют усталость от такой позиции, иллюзорность солидарности (в том числе солидарности внутри самого поля новой литературы). Одна из возможных реакций на эту усталость — цинизм и трансгрессия. Искусство «угнетенных» начинает напоминать «искусство хороших людей и правильных идей». Такое искусство либо ангажирует тебя полностью, либо хоть чуть-чуть да раздражает. И если хоть чуть-чуть раздражает, то Пидоренко тебе услада.
Можно сказать, что тут работает известное беньяминовское противопоставление, но превращенное в систему зеркал: неолиберализм, как старый добрый фашизм, эстетизирует политику, превращая ее в зрелищные жесты; прогрессивное искусство должно ответить политизацией эстетики. Но механизм политизации барахлит. И одним из ответов на это барахление становится как раз Пидоренко, метод которого — в осмеянии политического и своего рода трансгрессивной реэстетизации (в которой подчеркнуто сливаются возвышенное и уродливое). Поэтому легко себе представить «прогрессивную» точку зрения, с которой такие практики будут выглядеть реакционными — выступающими единым фронтом с расширенным «Трампом». На самом же деле Пидоренко, как и Дедужко, — санитары леса, они делают явным застой нового искусства.
Вопрос: почему привлекательной оказывается именно такая притворно-консервативная реакция? Отчасти дело, кажется, в том, что главным методом разоблачения отживших идей со стороны прогрессивного искусства долго была деконструкция, ее словарь, рожденная ей эстетика. Но сейчас деконструкция сама выглядит слитой с «правильными» дискурсами, которые, собственно, и раздражают (слышишь что-нибудь про победу над фаллологоцентризмом и думаешь: «ой, всё»). Вариантов ответа не так много, и в каждом из них есть своя правда: цинизм и трансгрессия, возгонка ангажированности и размежевание, постгуманизм и динамика слизи, уход в домашность и камерность. Другое дело, что мне дорога левая эстетика 2010-х, и я не думаю, что для нее нет спасения. Наоборот, в ней сейчас начинаются какие-то важные процессы — рефлексия по поводу краха солидарности и кризиса критических инструментов: когда критика начинает сомневаться в самой себе. «Контаминации» Скидана, которые я упоминал в начале разговора, — важный пример. Это, конечно, рождает меланхолию, но и надежду.
— А не видишь ли ты тут еще одной проблемы — того, что разговоры о «неореакционности Пидоренко» могут свидетельствовать о зарождении довольно печального консенсуса, в котором для подобного рода художественных стратегий может просто не оказаться места? Сперва мы окрестим неореакционером одного неконвенционального автора, потом начнем возмущаться в фейсбуке из-за того, что кто-то любит песни другого неконвенционального автора — Михаила Елизарова, — а через какое-то время объявим их неполиткорректными и заканселим.
— Я вообще не думаю, что подобные тревоги обоснованы, что русской культуре стоит бояться политкорректности. Динамика политкорректности со всеми ее достоинствами и недостатками нуждается в мейнстримной культуре. Либо эта культура шовинистична, и тогда ее призывают стать более открытой, либо она сама навязывает диктат корректности, и тогда ее атакуют с требованием отбросить лицемерие. В России же мейнстримной культуры просто нет. Есть только маргинальные феномены разного масштаба. Компромиссный мейнстрим формировался в нулевые и отчасти 2010-е, а потом как-то рассосался. Большинство его главных авторов ушли в тень, если не исчезли вовсе (как, скажем, Шишкин), либо превратились в маргиналов (как Прилепин, который был вроде как «большим писателем», а стал грустным клоуном — кстати, я его очень ценю как публичную фигуру). Думаю, растворение этого консенсуса ощущается и в интеллектуальной литературе, и, вероятно, в большинстве других областей культуры (хотя я не смотрю новые русские сериалы, которые все обсуждают в фейсбуке: может быть, там что-то такое нарождается).
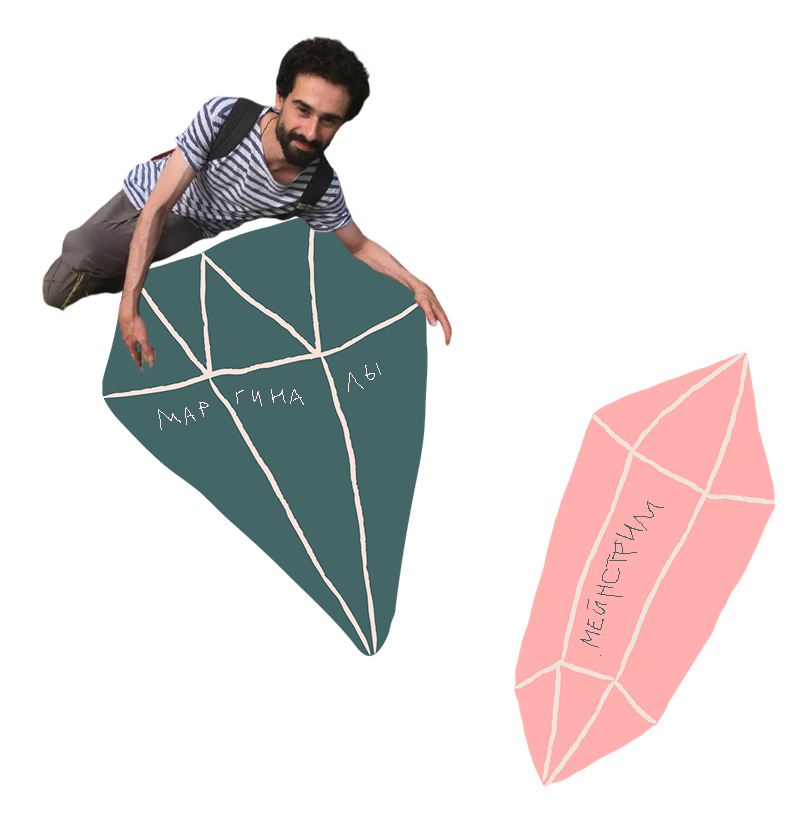 Мейнстримная культура связана с социально-этической нормой, которую мы можем одобрять или отвергать, но о существовании которой мы знаем. Утверждение нового языка и новой этики требует атаки на норму, но у нас этой нормы сейчас нет. Есть спектр возможностей или — что то же самое — спектр аномалий (а современные консервативные идеологии и эстетики столь же аномальны и не уверены в себе, как революционные). Нормы нет, есть только ее ускользающий призрак. Поэтому все, что внешне напоминает западную политкорректность, cancel culture и борьбу с иерархиями, работает совсем по-другому — как маневры в затуманенном поле, где каждый выслеживает собственных призраков, обладающих одинаково призрачной властью (евреев, крымнашистов, фаллологомосквичей и т. д.). У этих маневров может быть близкая тебе или мне повестка либо, наоборот, неприятная, но, кажется, нет причин опасаться, что из-за них немедленно возникнет какой-то новый порядок. В этом смысле важно, что ты упомянул Елизарова, потому что он очень хорошо это чувствует. Он ведь вовсе не консерватор, как некоторые считают. Он как раз скальд бредовой идеологической войны всех против всех, и его герой — гоголевский маленький человек, постепенно сходящий в этой войне с ума (это, кстати, абсолютно бардовская традиция, идущая от Галича).
Мейнстримная культура связана с социально-этической нормой, которую мы можем одобрять или отвергать, но о существовании которой мы знаем. Утверждение нового языка и новой этики требует атаки на норму, но у нас этой нормы сейчас нет. Есть спектр возможностей или — что то же самое — спектр аномалий (а современные консервативные идеологии и эстетики столь же аномальны и не уверены в себе, как революционные). Нормы нет, есть только ее ускользающий призрак. Поэтому все, что внешне напоминает западную политкорректность, cancel culture и борьбу с иерархиями, работает совсем по-другому — как маневры в затуманенном поле, где каждый выслеживает собственных призраков, обладающих одинаково призрачной властью (евреев, крымнашистов, фаллологомосквичей и т. д.). У этих маневров может быть близкая тебе или мне повестка либо, наоборот, неприятная, но, кажется, нет причин опасаться, что из-за них немедленно возникнет какой-то новый порядок. В этом смысле важно, что ты упомянул Елизарова, потому что он очень хорошо это чувствует. Он ведь вовсе не консерватор, как некоторые считают. Он как раз скальд бредовой идеологической войны всех против всех, и его герой — гоголевский маленький человек, постепенно сходящий в этой войне с ума (это, кстати, абсолютно бардовская традиция, идущая от Галича).
— Кстати, у Дедужки есть одно важное, на мой взгляд, отличие: его тексты так и не обрели пока книжной формы (хотя попытки предпринимались), их сложно уместить в переплет. Не может ли это стать сегодня одной из целей для авангардной литературы — создавать такие проекты, которые не помещаются в формат книги?
— Не знаю. С одной стороны, мне очень симпатично все невмещающееся, но, с другой, я не уверен, что это реальный критерий сопротивления. К тому же мне дорог медиум книги, и кажется, что его совершенно незачем преодолевать, он и так сейчас кажется едва ли не анахронизмом (и как раз Пидоренко мне нравится своим мерцающим бытованием: и ежедневный поток текстов в телеграме, и том «литпамятников»).
А насчет современного авангарда — не уверен, что такой разговор сейчас имеет смысл. Авангард — это же не просто все странное и незнакомое. Авангард предполагает смещения в отношениях жизни и искусства: наступление искусства на жизнь, наступление жизни на искусство. Но у нас с жизнью не очень — у нас есть только интернет. В современном интернете сложно быть утопистом, и гораздо легче — декадентом (хотя можно ностальгировать по утопии, авангарду и собственно жизни). Проекты, которые мы сейчас обсуждаем, скорее декадентские, чем авангардные, что не исключает новаторства и остроумия.
— Да, авангард — не то слово, конечно. Речь скорее о современной новаторской литературе, в симпатиях к которой ты не раз признавался. Но об авангарде хотелось бы продолжить: когда, на твой взгляд, прервалась традиция и разговор о нем потерял смысл? В прошлом году ты писал о выставке, посвященной Алексею Гастеву. Мне кажется, в его «Пачке ордеров» можно увидеть итог всей авангардной поэтической традиции. Поэт отдает последние приказы по радикальной переорганизации мира, оставляет искусство и уходит в жизнь. Кажется, что после такой книги авангардная поэзия вообще невозможна.
— Мне кажется, в разговоре об авангардной традиции есть ловушка. Авангард предполагает конец поэзии, выход за ее пределы — некое последнее слово. Не все, кто практиковал авангард, на такое отваживались, но как раз Гастев — хороший пример. Другой, чуть более гротескный, но тоже отличный пример — Алексей Чичерин, идеальный, почти карикатурный авангардист, который отпечатал поэму «Во веки веков» на прянике и замолчал. Но когда такое последнее слово произносится, для традиции не остается места. Традиция возможна либо как простое превращение авангардных приемов в стиль, либо как ностальгия по утопии, либо как прерывистые попытки возобновления этого радикального импульса (но каждая такая попытка заново ставит вопрос о последнем жесте). И тут возникает проблема: слово произнесено, пережит радикальный опыт — например, опыт письма или опыт революции. Но что-то происходит дальше: отдельный человек или вся культура — они продолжают жить. Если, конечно, не случается катастрофа: в русской истории судьба авангарда оказалась крепко связанной с наступлением сталинизма, и нам кажется, будто он был искусственно прерван (тут есть два нарратива: либеральный — «намалевали черных квадратов и накликали» и меланхолический — «если бы не Сталин, мы бы уже в аэрогородах летали»). Но, даже если бы не было репрессий и войны, все равно было бы некое «потом», «после». Для меня это самый интересный вопрос: как, оставаясь верным опыту — будь то опыт глубоко личный или предельно массовый, социальный или культурный, — жить в этом «после»? В частности поэтому позднесоветская эпоха занимает меня гораздо больше, чем собственно авангардная.
— Напоследок хочу вернуться к началу интервью и твоим словам про радость от текста Ольги Медведковой, которая плохо совместима с императивом актуальности. Мне кажется, сегодня это один из лучших комплиментов: из-за тюрьмы актуальности-модности иной раз страшно брать в руки новую книгу — боишься, что там притаилась очередная янагихара. Многие ищут рецепт для избавления от этого недуга: я, например, в связи с этим сразу вспоминаю об Антуане Володине.
— Мне кажется, проблема актуальности-модности любопытная, потому что в ней сходятся две вещи, будто бы противоположные. С одной стороны — «серьезное» требование к литературе нечто выражать, ставить важные здесь и сейчас вопросы и отвечать на них. А с другой — литература как объект престижного потребления. И с тем, и с другим сложно что-то сделать, потому что это и есть социальная роль современной (в широком смысле) словесности. Просто иногда императивы актуальности и модности могут производить нечто интересное, а иногда — работать вхолостую и давать «янагихару». Эти две установки на самом деле друг от друга неотделимы. И «актуальное», и «модное» делают читателя более современным, не дают ему вывалиться из своего времени. Но одна из самых прекрасных вещей, которые умеет литература, — оказывать некоторое сопротивление времени «обычному» и предлагать другое время. (Необязательно время фантастическое — это может быть, например, и время истории, потому что современность всегда чувствует себя отделенной от истории и почти всегда испытывает по этому поводу рессентимент.) Два названных тобой автора — хорошие примеры, потому что делают это по-разному. Володин строит собственную утопию, в которой из катастрофы постоянно возрождается авангардный, революционный порыв, и обычное время отменяется (при всей своей жути, его книги абсолютно утопические). Медведкова же пишет изнутри большой европейской традиции — зная, что эта традиция чужая, но в ней можно как бы погостить, не тоскуя при этом о какой-то фатальной от нее отделенности. И как раз такое «время пребывания в гостях» дает свободу, которой у современной русской прозы очень мало. Но речь идет не только об эскапизме того или иного рода. Я в последние месяцы много читал Петера Хандке (хотя его переведенные на русский вещи в основном написаны в 1970-х и 1980-х). Он вовсе не аполитичный автор, но у него как раз есть важное сквозное ощущение: современность, актуальность — это галлюциноз, и, чтобы разглядеть время земли, страны, время человеческой жизни, — надо его развеять. Я не думаю, что тут важны какие-то технические рецепты. Скорее важно вот что: литература как раз та вещь, которая производит актуальное, но она же способна его прорывать.