Утешение философией
Я бросил читать русскую художественную литературу с 1991-го, она мне вдруг стала противна. В самом времени была фантазийность, которая не имела высоких образцов. Но в романе Пелевина «Чапаев и пустота», там, где он описывает переход героями Бульварного кольца, передана странность межвременья Москвы ранних 90-х.
Это время, когда во всех дворах стояли груды выброшенных книг. Контейнеры для мусора были забиты домашними библиотеками, страна читателей выбрасывала книги. Но в том сумрачном времени я испытал солидарность со старой макулатурой. Книжная память помогала мне выживать.
Необратимость перестройки я понял еще в 1987 году, когда все искали тех, кто «тормозит» процесс, и тут я понял, что быть беде. И хотя мой политический разум был истерзан, атмосфера и даже запахи бодрили, обещая новые источники энергии. Первое радостное ощущение касалось быстрого руинирования всего. Были и руины в банальном смысле слова, потому что Москва и без того была в плохом состоянии. Но громоздились руины прежних эпох, и в перестройку ощущалась возможность оживления, возрождения того, что было мертво.
Я любил гулять в развалинах за Метростроевской (теперь Остоженкой) к реке, где будто Батый прошел. Но это были страшно живые руины — в них шла другая жизнь. На территории уже заброшенной фабрики здесь стоял полуразрушенный барский дом, будто перенесенный из 1917-го или из романа «Бронзовая птица». Со стороны фабрики он был конторой, а с другой — окунался в одичавший розовый сад с неработающим фонтаном темного мрамора. После эту руину занял Гаврила Попов и открыл там свой университет.
Кстати, понятие «руинированность» я позаимствовал у Вячеслава Глазычева при встрече с ним в ранние 1990-е у Джорджа Сороса. Я люблю это слово. Шедевром руинированности 90-х был Ленинград. После переименования я перестал туда ездить из принципа, пока однажды туда не попал в 1992-м или 1993-м году — и все простил именно за проступивший сквозь него облик Петрограда. Тот меня примирил с нео-Петербургом. Вот где были руины! Всем руинам руины. Ленинград запустел, и прямо на проезжей части Невского асфальт был взломан пробивающимися растениями. Явно некому и незачем было что-либо здесь ремонтировать. Я почувствовал себя в Риме времен любимых Боэция и Кассиодора и, вернувшись в Москву, перечитал «Утешение философией».
Тогда же там была другая смешная книжная рифма. Иду через город, где дворы еще не перекрылись железными дверьми и домофонами и зевы распахнувшихся парадных без единой лампочки. Вдруг навстречу выплывает парочка оборванцев. Старик, в старом, когда-то дорогом пальто и номенклатурном двубортном костюме, с ним старуха со следами бывшего благополучия. Они обращаются друг к другу на вы. Я вдруг почувствовал, что провалился в какое-то детское книжное дежавю, и вдруг вспомнил: это же «Месс Менд, или Янки в Петрограде» Мариэтты Шагинян, переизданная в начале 1960-х в «Библиотеке приключений», тогда же читанная много раз с упоением. Эта книга — фантастическая утопия, ее пролетарская мистика идеально передает колорит послереволюционного Ленинграда. И там есть место, где навстречу герою в Ленинграде выходят двое «бывших» аристократов, обращаясь друг к другу «граф» и «графиня». Вот такая рифма.
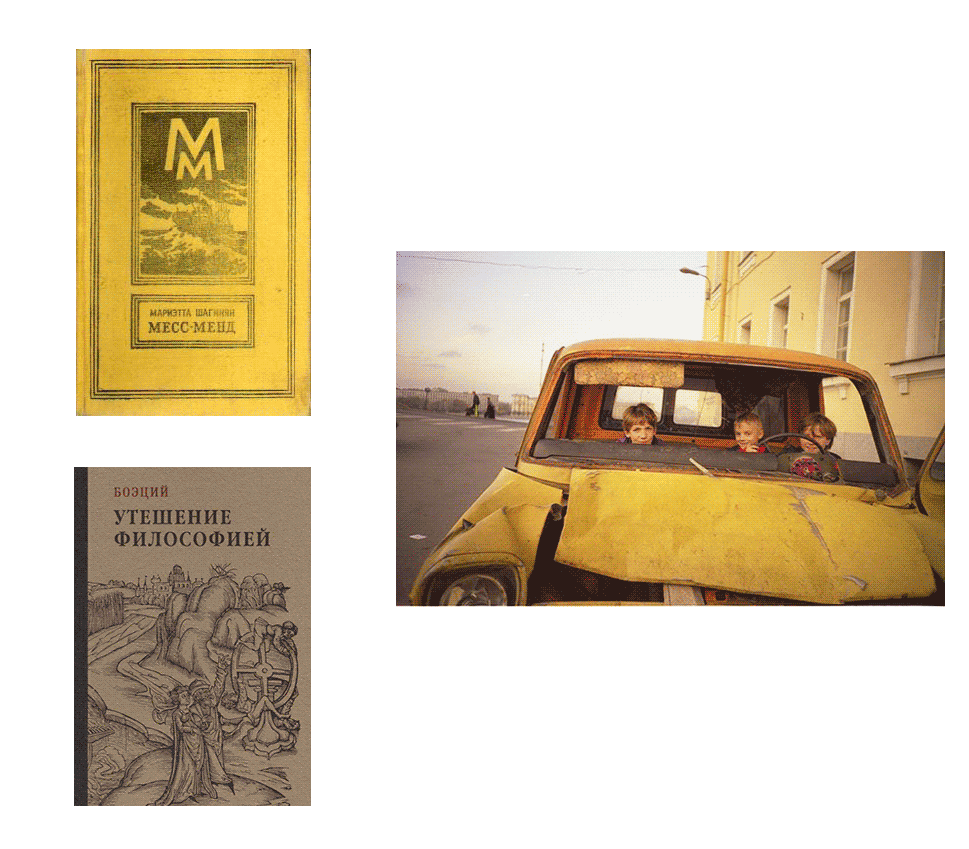
В начале 90-х заново актуализировался и Достоевский. Во-первых, «Дневник писателя», который я читаю чуть ли не со школы. Любимым местом в нем была главка «О сдирании кож вообще». Описывая со вкусом турецкие зверства на Балканах, Достоевский внезапно поворачивается к читателю: почему такого не может случиться у нас? Потому что мы цивилизованней турок? Или потому что городовой на углу стоит? Читателей он подводит к тому, что они просто турки с городовым на углу. Это рассуждение повлияло на мое политическое мышление.
Когда я читал романы Достоевского в СССР, все его ростовщики, власть голода и убийства за деньги — это все был какой-то неведомый реквизит, его приходилось читать как Гомера. И вдруг в 90-е Достоевский открылся: да это совершенно прямая речь! Это прямо про нашу жизнь. Я видел, как наступает время беспощадной нищеты, и ушел в кооператив. Советская жизнь была нищей, но нищей иначе: не могло возникнуть ситуации, когда ты нищий насмерть. Тут вдруг я понял романы «Игрок», «Преступление и наказание» — они стали читаться ясно. Это было новое ощущение.
Истребление тиранов
С конца 1980-х я был редактором журнала «Век XX и мир». Рефлексируя на темы происходившего, я переживал звериное чувство возврата диссидентских страстей. Первая моя статья в этом журнале была против тренда гласности. Ее камертоном был тогдашний мем Юрия Власова о «коллективном прозрении». Коллективные банальности меня сразу насторожили в гласности, показались унизительными.
Я бросал вызов, но демократическая публика прочла в нем другое: гласность взяла новый рубеж! Меня заключили в объятья Карякин, Адамович и прочие гранды гласности. Тогда я перечитывал Набокова: «Приглашение на казнь», «Истребление тиранов». В свое время нами они глотались наспех как антисоветские агитки. Теперь же, поскольку действие происходит в западной среде, возникает ощущение сорванной повязки. Набоков читался как предупреждение о чем-то опасном уже назавтра.
Антитираническое в диссидентстве вышло на первый план и несло новую возможность сопротивляться мейнстриму. В это время я напечатал в «Веке XX» «Две тысячи слов» Вацулика и солженицынское «Жить не по лжи», для меня они — стихотворения в прозе и одновременно политическая инструкция. Стало ясно, что диссидентский этос дает опору для сопротивления, но чему? Перечитывая рассказы Платонова, я наткнулся на «Мусорный ветер», его антифашистский рассказ конца 1930-х.

В 1992-м он показался точной метафорой того, что я ощущал: мусорный ветер современности прямо в лицо. Травля простонародья в демократической прессе начала 90-х — это и был мусорный ветер. Я ходил по этой мусорной Москве и чувствовал, что русская литература еще нам послужит. Моя редакция была в том же здании, где были «Московские новости», только со двора, — это было здание Союза театральных деятелей. Однажды, поздно уходя из редакции, я услышал тяжелые шаги за дверью на лестнице и затем журчащую струю — кто-то снаружи мочился на редакционную дверь. С интересом открываю, а там Юрский стоит и мочится. Увидев меня, он абсолютно естественно застегивает ширинку и спрашивает: «Дорогой, что это здесь у вас располагается?» И услышав, что «Век ХХ и мир», говорит: «Ах, какой прекрасный журнал!» Пожав мне руку над лужей мочи, он отправился дальше вниз по лестнице.
С 1991 года рядом с нашей аркой, выходившей на бульвар, возникла неубираемая куча мусора. Перестройка шла к концу, и эта куча была почти в высоту арки. Евгений Евтушенко с операторами снимал стариков, которые роются в этой куче мусора. Рядом с кучей были стенды «Московских новостей», где всегда толпился народ за свежей демократической правдой. По этой мусорной Москве я ходил, скандируя про себя набоковскую строчку: «И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать».
Да, у меня первая половина 90-х отразилась неуходящим отчаянием: вот оно дно. Днище! Когда-то, когда я только приехал в Москву искать учителей жизни, у меня было здесь нелюбимое место — часть улицы Горького от Охотного ряда справа, пара кварталов вверх. Слева тянулись два «Интуриста» подряд, где нашего брата могли словить и поглядеть, что в портфеле, а справа эти специфические кварталы. Кажется, тогда там еще были деревья, но я все равно не любил этих мест. Не знаю, почему. И в 90-е все сбылось — от угла здесь рядами стояли школьные учительницы, просили милостыни и продавали свои духи «Красная Москва».
 Итак, теперь я жил в городе-оборотне, и у меня возник интерес к предателям. Все, что меня окружало, рифмовалось с судьбой предателей, знаменитых иуд. Среди них прежде всего Алкивиад — диалог Платона я когда-то читал, но очень поверхностно. Тут я неожиданно перечитал «Алкивиада» с упоением, с большим чувством близости. Я открыл место у Плутарха, которое пропустил по-молодости: реплику Алкивиада на слухи в Афинах, что он умер. Где Алкивиад говорит: «Ладно, афиняне, я еще докажу вам, что я жив!» Это место превратилось в пароль моего отношения ко всему, что я видел. Усталый раб, я замыслил нечто большее, чем побег. У меня возникло ощущение силы, а до того казалось, что жизнь исчерпана.
Итак, теперь я жил в городе-оборотне, и у меня возник интерес к предателям. Все, что меня окружало, рифмовалось с судьбой предателей, знаменитых иуд. Среди них прежде всего Алкивиад — диалог Платона я когда-то читал, но очень поверхностно. Тут я неожиданно перечитал «Алкивиада» с упоением, с большим чувством близости. Я открыл место у Плутарха, которое пропустил по-молодости: реплику Алкивиада на слухи в Афинах, что он умер. Где Алкивиад говорит: «Ладно, афиняне, я еще докажу вам, что я жив!» Это место превратилось в пароль моего отношения ко всему, что я видел. Усталый раб, я замыслил нечто большее, чем побег. У меня возникло ощущение силы, а до того казалось, что жизнь исчерпана.
Я не бедствовал. Я руководил информационным агентством «Постфактум», был здоров, мне только исполнилось 40 лет, но ощущение исчерпанности тяготило. Тут вдруг я понял, что, ударившись о дно пятками, можно всплыть, но всплывать теперь надо против течения.
Второе тогдашнее книжное переживание, тоже связанное с темой предательства, — книга о полковнике Пеньковском, которую написали американцы по материалам разговоров с ним на Западе. Для детей моего поколения в 1960-е годы Пеньковский был табу. Даже евангельский Иуда казался благородней. Образ Пеньковского был грязен и табуирован. Как вдруг я увидел странную рифму судьбы человека с судьбой его страны, проделавшей вслед ему тот же путь. В книге Пеньковский предстал очень русским. Он воевал, заслужил боевые награды. Эта очень русская попытка отчаянно кинуться в противную жизни сторону. Книга рассказывает, как Пеньковский перед Карибским кризисом хотел единолично остановить надвигающуюся мировую войну. Он предлагал даже себя в роли смертника: прийти в Кремль и взорвать политбюро.
Я увидел русское желание переметнуться, перемениться совсем. У меня возникла параллель, которая объяснила мне его: он жил в стране, которая, едва убив его, сама кинулась за ним в ту же сторону со смесью идеалистических и корыстных мотивов. Ведь хотели свободы, хотели добра, но хотели и обогатиться сразу. В общем, у меня было настолько сильное ощущение от книги, что я ходил по адресу к тому его шпионскому почтовому ящику, что за батареей в подъезде на Пушкинской (сейчас Малая Дмитровская). Та батарея все еще там висела, с шестидесятых.
Я еще не был крещен и не стремился, но христианство вдруг стало важным. Я понимал, что вижу выход каких-то дохристианских начал в русском человеке, очень наружно христианизированном. Презрение к просвещению, а ведь просвещение — это понятие из Евангелия. Тогда я с интересом читал перевод частей Библии Валентины Кузнецовой, первую версию ее перевода, отличавшуюся от позднейших, уже сильно зализанных. Грубый перевод, где крещение называется «обливанием», дикарски хорош. Он меня захватил, и я понял, что это религия сопротивления данности. Интеллигенция же искала себе другого православия — комфортного, капитулянтского.
Формула Лимфатера
Вообще, после рождения детей именно 90-е меня, одессита, примирили с Москвой. И руины Арбата. Можно сказать, я жил на трех Арбатах — 1970-х, 1980-х и 1990-х. Это были три разные страны и три Москвы. Арбат 1970-х — встречи с машинистками по самиздату. На том углу Кропоткинской, о котором Надежда Яковлевна Мандельштам рассказывала, как здесь ей Ося сказал, что готов к смерти.
Арбат был тогда густонаселенной руиной. Одно место я приметил, когда еще читал в Бутырке роман «Некуда» Лескова, которого поначалу не очень любил. Там лирическое отступление о том, что только в Москве такое возможно: в богатом районе среди благополучных домов стоит пустующий дом, в котором все же горит свет и живут странные люди, занимающиеся бог знает чем. У Лескова там живут нигилисты. В 1970-х жили дворники-диссиденты, нелегальные психотерапевты и катакомбные христиане. В одном из них жил я. В 1980-е и 1990-е здесь поселились клубы, политические и неполитические. Я перечитал это место у Лескова и кинулся к тому дому: не оно ли там описано? Это описание долго сохраняло какое-то значение камертона к миру арбатских переселений и неформальских сквотов. Когда я был тут дворником, в одном из подъездов на улице Рылеева (ныне Гагаринский переулок) висело дореволюционное почернелое зеркало, чудом уцелевшее. В конце 80-х, когда я вернулся из ссылки, зеркало уже было разбито.
Огромную роль играли в мои школьные годы Стругацкие. Стругацкие были сериалом моего взросления, как советский «Гарри Поттер». Так получилось, что их первые наивные вещи — «Страну багровых туч» и «Путь на Амальтею» — я читал, когда сам был в третьем-четвертом классе. Они менялись, и это идеально накладывалось на мое собственное взросление. В 1965-м я уже прочитал «Хищные вещи века», «Трудно быть богом», а затем их предисловие к сборнику Саймака про «третью революцию» в 1968-м, которое воспринимал как политическую листовку. Но я взял от них все и после «Улитки на склоне» и «Обитаемого острова» с начала 1970-х я счел, что — довольно. Любимый всеми «Жук в муравейнике» уже был для меня просто чтивом.
Аркадий являлся политиком продвижения НФ — у него это занимало чуть ли не большую часть времени. Об этом я с ним говорил как-то в Киеве. Он сидел в советах и продвигал разные книги, заключал коалиции со старым партийным идиотом Казанцевым. Борис этого не стал бы делать, а Аркадий создал действительно НФ как общественный институт. По сетям клуба НФ мы затем шли сетью самиздата.
Зато в 90-е вернулся Станислав Лем. У Лема вообще колорит руинирования Варшавы, старой Польши и старого Львова, где он вырос. Удивительные вторжения иных реальностей происходят у него среди рассохшихся полов, заросших запущенных дач, неработающих лифтов. Это принципиальный стилистический момент.
«Формула Лимфатера» Станислава Лема, кстати, один из источников моей «Иронической империи». Это короткая повесть про создание полубезумным профессором всезнающего разума. Разум, который узнает обо всем без ощущений, — всеведущий. В опытах профессор долго терпит неудачу, пока не догадывается, что всезнающее желе, которое он создает, сперва должно умереть. И только в момент некроза возникает новый модус его всемогущества. Но так же возникла и Система РФ: в некрозе СССР. Есть такое понятие — «имперский надрыв». Его обещают России как будущий финал. Но что, если все было иначе и имперский надрыв был еще в самом ее начале, став источником Системы РФ? Надрыв России, а не СССР. Надорвались, пытаясь распространить советское правопреемство на гигантское пространство, которое никогда не бывало единым в этих границах. Нынешняя Россия ничего не наследует от СССР, она его антимир. Я об этом говорю в своей книге.
 Глеб Павловский с Гефтером за неделю до ареста, конец марта 1982
Глеб Павловский с Гефтером за неделю до ареста, конец марта 1982
Я несколько раз пытался написать об этом всем в 1990-е, но у меня тогда как язык отрубило. Тогда я работал с Гефтером, но наши разговоры были герметичной речью для двоих. А заговорил благодаря Вадику Цымбурскому, его прочтенному в 1990-х эссе «Остров Россия». Геополитику не любил никогда и не люблю сейчас, но это эссе почему-то стало разрешением мне заново говорить о происходящем с нами.
Я хорошо это помню: сижу на балконе в Солнцеве, читаю эссе Вадима и гляжу во двор. Там чумазые дети бегают, вопят, как в Каире. Церковку восстановили, вешают церковный колокол — бронзовая литая надпись: «Построено на пожертвования солнцевской братвы». (Ее после свинтили.)
Вдруг понял, что меня перестала мучить реальность 1990-х — да, она чужая, не моя, но она дико интересна, и, главное, теперь я знаю, что мне с ней делать. Помню это чувство. Шел 1994 год, и я прямо тут на балконе стал писать текст о «беловежском человеке», текст-прощание. А еще через полгода возник Фонд эффективной политики, и девяностые для меня закончились.
