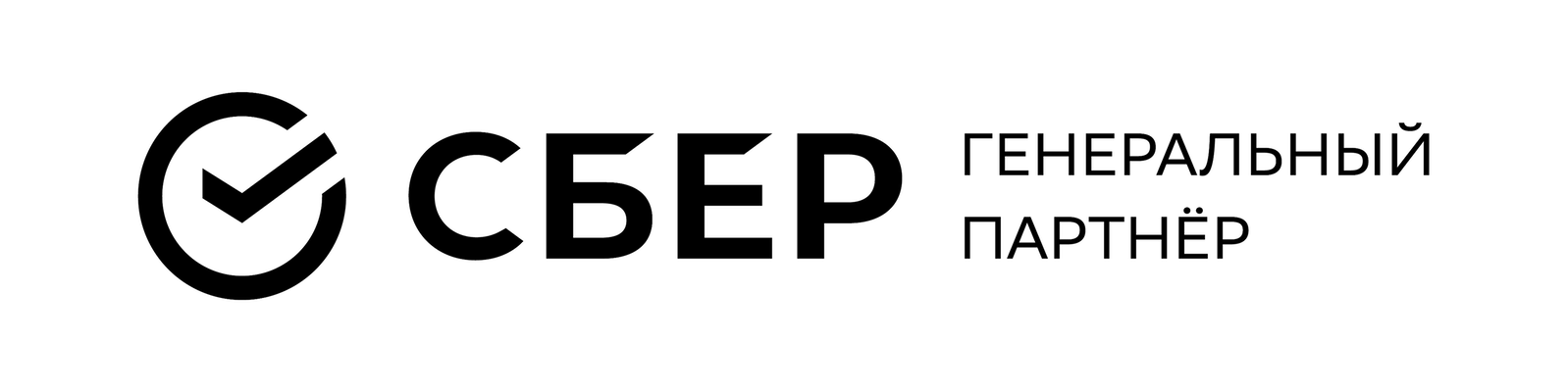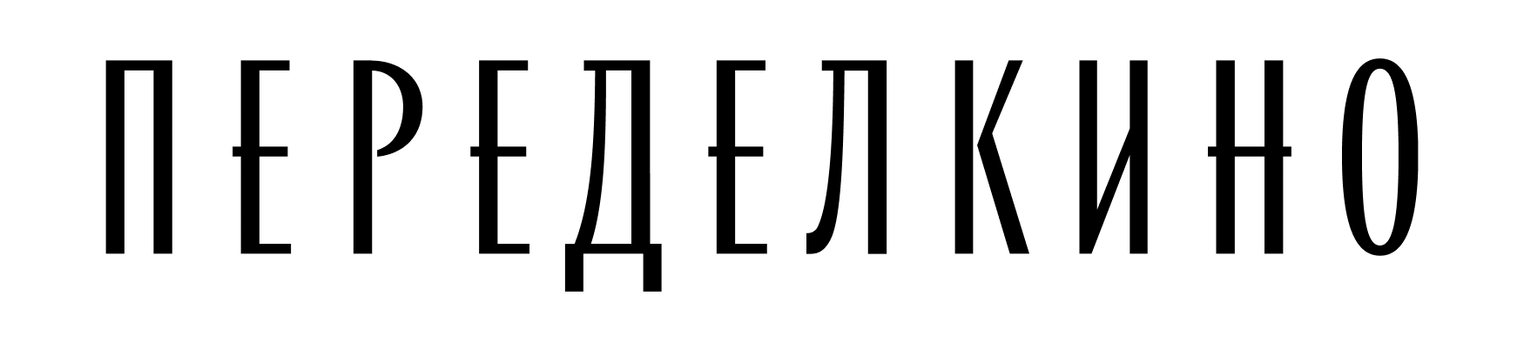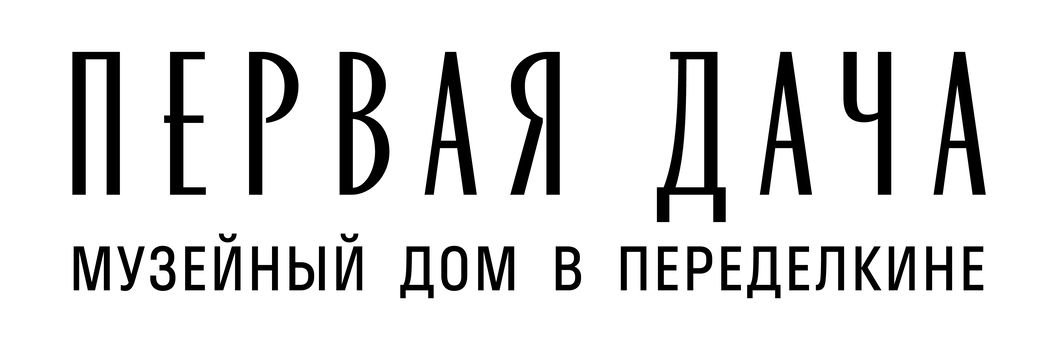Место, где нет друга
Лекция Александра Осповата о Тынянове-теоретике и Тынянове-практике
В Доме творчества Переделкино продолжается цикл лекций «Ожерелье без нитки», приуроченный к скорому открытию музейного дома «Первая дача». Наши читатели уже могли ознакомиться с выступлением Валерия Отяковского о ключевых фигурах формальной школы. Сегодня же подробнее остановимся на Юрии Тынянове — центральном герое лекции Александра Осповата. Мероприятие проходит при поддержке генерального партнера Дома творчества Переделкино — Сбера.
Юрий Тынянов родился в Режице (уездный город в Витебской губернии), в 250 километрах от Риги. Отец Тынянова, Насон Аронович, и его двоюродный брат, Мендель Шевахович Жирмунский, были врачами; для этих состоятельных евреев — как и для купца первой гильдии Осипа Абрамовича Якобсона и архитектора Михаила Осиповича Эйзенштейна — приоритетной задачей являлось образование детей. Их сыновья, родившиеся в 1890-е годы, принадлежали тому поколению российских гуманитариев, чьи достижения и интуиции легли в фундамент наших знаний в научно-художественной сфере.
Я с умыслом назвал именно эти имена. Выдающийся филолог Кирилл Фёдорович Тарановский как-то пересказывал свой приватный разговор с Якобсоном. Роман Осипович сказал: «Знаете, вот у евреев так все устроено, что если еврей станет провизором, то в его кругу все станут провизорами. А если еврей станет стиховедом — в его кругу все станут стиховедами». В широком смысле это подтверждается на опыте поколения Тынянова.
Сам он был и теоретиком литературы, и практиком — литературным критиком, прозаиком, переводчиком, открывшим для русского читателя новые грани поэзии Гейне. С Гейне его сближало чувство этнической обособленности. Еще в школьном своем сочинении Тынянов выставил эпиграфом цитату из «Мистерий» Кнута Гамсуна: «Я чужой, я чужестранец здесь. Я каприз Бога, если хотите». Сопричастность этому человеческому типу определила целый тематический пласт, отразившийся и в опубликованной прозе, и в большем корпусе черновиков и планов.

Он был удивительно похож на Пушкина — в этом сходятся все современники: невысокого роста, курчавый, бросалось в глаза то, что вежливо называли «креольские черты». Ну и к тому же выдающийся быстроумец и остроумец. Еще во время его обучения в Петроградском университете составился кружок, который сами участники назвали ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка); со стороны их называли «формалисты». Этот термин случаен и неточен (как и большинство терминов, извне присвоенных сформировавшейся группе единомышленников, — вспомним, например, о славянофилах). Пафос формальной школы — возрождение поэтики, установка — изучение «литературности», т. е. устройства текста, делающего его литературным; и в перспективе — установление законов движения литературного процесса, в ходе которое чередуются взрывы, паузы и промежутки стагнации.
Сегодня мы коснемся Тынянова — теоретика литературы и Тынянова-писателя. Поскольку он писал прозу, то начнем именно с его исследования поэзии, с книги «Проблема стихотворного языка». По Тынянову, стихотворный текст отличается от прозаического делением на строки: это — «стиховой ряд»»; каждая строка читается как замкнутая, как аналог фразы; это обеспечивает «единство стихового ряда».
Но поэтическая строка (стиховой ряд) не всегда вмещает законченное сообщение. И вот тогда начинается перегруппировка «семантических связей», создающая иллюзию замкнутости; это обеспечивает «тесноту стихового ряда». Такой текст вызывает затруднение, его надо перечитывать, и внимание переносится на самый процесс чтения, часто в ущерб результату. Тынянов приводит пример из Батюшкова:
Ничто души не веселит,
Души, встревоженной мечтами,
И гордый ум не победит
Любви — холодными словами.
Перенос части фразы из одной строки в другую называется «анжамбеман». Тынянов назвал это «принудительным фактом стиха», вспомнив замечание Пушкина: «Смысл выходит: холодными словами любви; запятая не поможет».
Здесь теснота стихового ряда ведет к перестройке смысла. Для Тынянова это был принципиальный момент: вторжение нового, не ожидаемого читателем значения взамен очевидного есть важное условие поэтической речи.
Еще один пример — из Якова Полонского:
Кура шумит, толкаясь в темный
Обрыв скалы живой волной…
Если перевести в прозу, то получится: «Кура шумит, толкаясь в темный обрыв скалы». И повествовательная интонация выделит в качестве семантически опорного определяемый объект — обрыв скалы. А в стихе основной смысловой заряд получает определяющий эпитет «темный»; по Тынянову, здесь происходит мобилизация дополнительных смысловых признаков; «темный» — это не только темный, но и мрачный, шумный; нечто рождающее у нас негативную реакцию.
И наконец, третий пример, когда теснота стихового ряда отчетливо проявляется в строке, совпадающей с сообщением. Это из хрестоматийного стихотворения Лермонтова:
В твои глаза вникая долгим взором,
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
Резкая цезура, которая разбивает пятистопный ямб последней строки, и ее интонационные следствия создают возможность для альтернативного чтения, которое воспроизводится даже в некоторых изданиях: «Но не с тобой, я с сердцем говорю». Так возникает эффект «вторичной семасиологизации», не предусмотренной автором, но весьма характерной для стихового строя: колеблющиеся значения слов — основные и эмоциональные — переливаются друг в друга.
Часто и справедливо говорят, что «Проблема стихотворного языка» написана темно и метафорично, что в книге есть много натяжек и домыслов. Сошлюсь, однако, на Михаила Леоновича Гаспарова, автора весьма критического разбора тыняновской теории. Когда он приехал в Лос-Анджелес, я попросил его прочитать в Калифорнийском университете лекции по стиховедению. Первая лекция была как раз о единстве и тесноте стихового ряда.
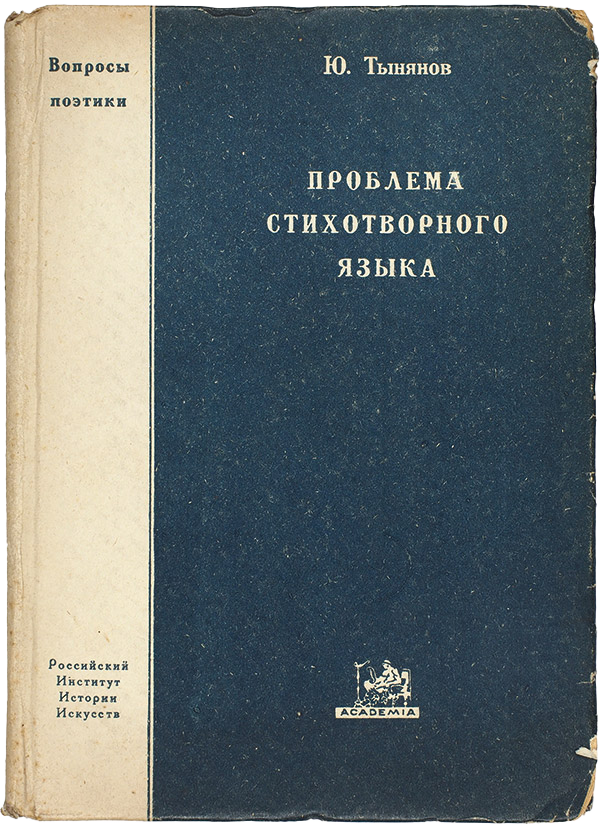
Михаил Леонович предупредил: «Есть тыняновское понятие, к которому я сейчас буду предъявлять свои претензии». Мы договорились, что после преамбулы присутствующие могут задавать вопросы приглашенному профессору.
И вот с американской непосредственностью и на хорошем русском языке мой докторант спросил: «Профессор, а зачем тогда вы хотите об этом нам рассказывать?» Гаспаров ответил: «Конечно, я сейчас буду оспаривать целый ряд тыняновских наблюдений и выводов. Но дело в том, что само это явление — единство и теснота стихового ряда — действительно существует, и его открыл Тынянов».
Тынянов был теоретиком не только стиха, но и прозы. В частности, ему принадлежит одно из очень важных положений: герой любого прозаического (как и поэтического, впрочем) произведения — это не статическое единство, а сочетание часто несхожих индивидуальностей, которые лишь выступают под знаком одного имени. В персонаже мы встречаем набор черт, которые соединены не по законам, применимым к реальному человеку, а по законам литературного текста.
Прозу Тынянов начал писать очень рано, фактически одновременно с исследовательской работой. Его первый опыт, опубликованный в 1925 году под псевдонимом Юзеф Мотль, назывался «Попугай Брукса» и был навеян воспоминаниями о жизни в Резекне.
Около этого времени Корней Иванович Чуковский предложил ему подработку, или, прямо скажем, литературную халтуру: «Напишите какую-нибудь детскую повесть о тех героях, которыми занимаетесь. Например, о Кюхельбекере, листов пять». Тынянов сел и написал «Кюхлю» — исторический роман объемом в девятнадцать листов.
В 1927 году журнал «Звезда» опубликовал новую прозу Тынянова, главным героем которой стал Грибоедов. На романе «Смерть Вазир-Мухтара» мы остановимся более подробно.
Первую главу предваряет эпиграф арабской вязью, затем русским шрифтом: «Шаруль бело из кана ла садык» — и помета: «Грибоедов. Письмо к Булгарину». Перевод же эпиграфа был дан в примечании: «Величайшее несчастье, когда нет истинного друга».
На самом деле арабская апофегма переводится совсем иначе: «Худшая из стран — место, где нет друга». Указание тоже ложное: письмо Грибоедова адресовано не Фаддею Булгарину, а Павлу Катенину. Тынянов был блестящий эрудит, отменный знаток литературных и исторических источников по самым разным эпохам; во время своей болезни он загонял молодого Ираклия Андроникова в Публичную библиотеку и не выпускал его до тех пор, пока тот не доищется нужной справки. Тынянов знал публикацию Игнатия Юлиановича Крачковского в академическом издании, где сообщался верный перевод арабской фразы; ну а перепутать Катенина с Булгариным он не мог ни при каких обстоятельствах. Отсюда вопрос: зачем в паратексте романа одна фиктивная информация накладывается на другую — причем незаметным для читателя образом.
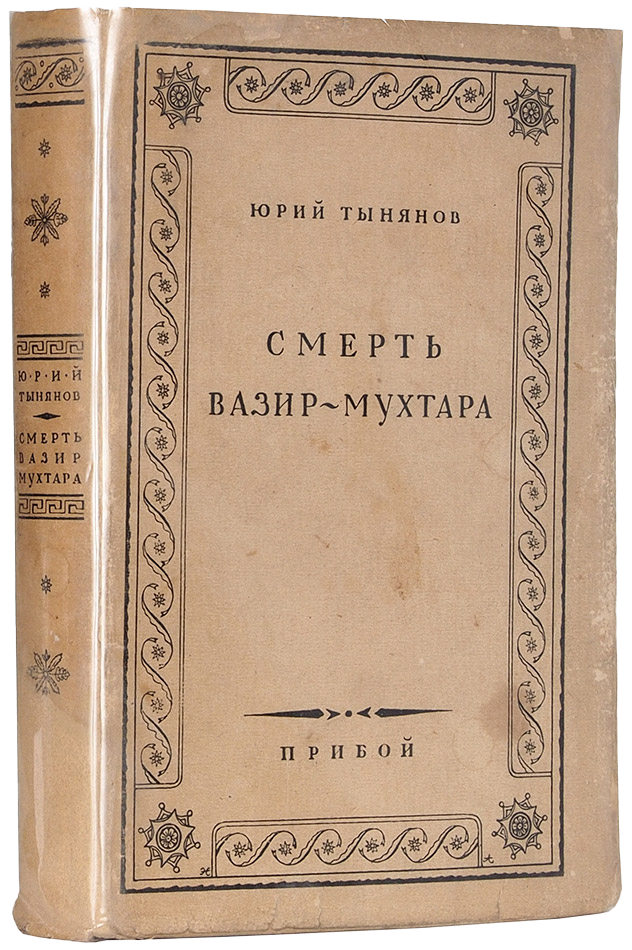
Таков первый ключ к роману. За эпиграфом, где дано определение «величайшего несчастья» («…когда нет истинного друга»), скрывается его источник, в котором отсутствие человеческого дружества квалифицирует глубинный порок страны обитания. Тема дружества разыграна и в помете. Катенина, приятеля Грибоедова в начале 1820-х годов, который высказался о «Горе от ума» еще более недоброжелательно, чем Пушкин, меняет Булгарин; он действительно любил Грибоедова, сохранил рукопись «Горя», но для читателей Тынянова его репутация была настолько скомпрометирована, что выдвижение этой фигуры на первый план могло вызывать если не оторопь, то недоумение. А далее, во второй главе, читатель встретит констатацию: «Дружба с Булгариным удовлетворяла его. Он по большей части любил людей с изъянами»
Еще один ключ — на поверхности текста. Первой главе романа предшествует Вступление, в котором автор единственный раз объявляет о своем присутствии: «Человек небольшого роста, желтый и чопорный, занимает мое воображение». Заключает же Вступление фраза, как будто относящаяся к будущему герою: «Еще ничего не решено». Она переходит, с легким изменением, в первую фразу первой главы: «Еще ничего не было решено». Как осведомляется читатель по прочтении романа, ничего и не будет решено.
Биографическая канва втиснута Тыняновым в последние месяцы жизни Грибоедова — для чего в 1828 год перенесены хорошо известные эпизоды и события из предшествующего и последующего времени. При этом на протяжении всего романа фактический материал и цитатный пласт подвергается массированному искажению. Исторический романист, конечно, вправе вольно обходиться с документами, но обращение с источниками в «Смерти Вазир-Мухтара» иначе как садистическим не назовешь. Предварительный перечень таких умышленных сдвигов в хронологии и в функции персонажей составлен Георгием Ахилловичем Левинтоном, и я приведу лишь один выразительный пример. Современникам запомнилась фраза профессора Никифора Евтропиевича Черепанова, преподававшего в Московском благородном пансионе: «Милостивые государи! Семирамида была великая ***** [распутница]». У Тынянова ее произносит на экзамене известный литератор и востоковед Осип Сенковский. Заметим, кстати, что в современных изданиях «*****» низведена до «стервы», что выглядит тоже неуместно.
В завершении эпизода следует пояснение: «Как он дошел до Семирамиды, Грибоедову было непонятно». Этому последнему слову сообщен в романе основной смысловой акцент. Здесь необходимо вспомнить свидетельство одной женщины — литературного секретаря Тынянова. В 1941 году он был уже очень болен, не мог писать, только диктовать. И как-то Тынянов сказал ей: «Когда я стал размышлять о Грибоедове, мне наконец стало ясно, что он вовсе не знал себя. И только поняв это, я мог написать роман». Отсюда — построение романа. Перемешивая события и перевирая факты, лишая их внутренней связи, Тынянов вводит в свою вещь ауру непонимания. Есть загадка судьбы, нет ее разгадки; то, что не подлежит уразумению, не может иметь документальной опоры и освобождено от логических связей.
Вместе с тем произвольно выхваченные обрывки биографии Грибоедова и размазанные пятнами события 1828 года служат материалом для романа о русской истории. Грибоедов бежит из страны, где нет друга (рефлекс подлинной арабской сентенции!), где нет понимания происходящего. Приглашая его в Москву, в «наш Некрополь», Чаадаев отпускает реплику: «У нас <…> ни движения, ни мысли. Неподвижность взгляда, неопределенность физиономии. Тысяча верст на лице». В Петербурге же по прибытии Грибоедова с Туркменчайским трактатом «все коллежские советники были пьяны завистью, больны от нее, а ночью безотрадно и горячо молились в подушки».
Роман «Смерть Вазир-Мухтара» не встретил цензурных затруднений, да и читатели определенного рода, которые при подозрительных случаях охотно били в колокола, промолчали. Тынянов запечатал свое послание в бутылке, предполагая, что когда-нибудь эту находку обнаружат.
_____
Реклама. АНО «Дом творчества писателей в Переделкино», ИНН 9705146848
erid: 2W5zFGMRbg4