Как читать «Исторический роман» Георга Лукача
О знаковой работе венгерского философа и литературного критика
«Исторический роман» (ИР) Георга Лукача нельзя назвать забытым или недооцененным. Эта работа стала основополагающей не только для исследований в области исторического романа, но и для всего марксистского литературоведения. Важную роль в ее рецепции сыграл Фредерик Джеймисон, автор предисловия к американскому изданию ИР (1983), выступивший посредником между Лукачем и англоязычной академической средой.
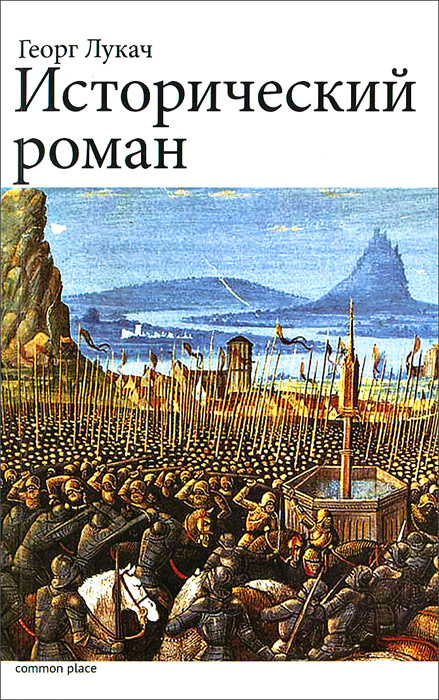 Русскоязычная судьба ИР, написанного Лукачем в середине 1930-х годов в Москве, оказалась более сложной. В 1937—1938 годах работа был опубликована по частям в журнале «Литературный критик»: Лукач рассчитывал издать ИР отдельной книгой, но осуществить задуманное не удалось — отчасти из-за отрицательного отзыва Виктора Шкловского, рецензировавшего рукопись в издательстве. Только в 1955 году, когда Лукач уже жил в Будапеште, он смог опубликовать эту работу на немецком языке в Восточном Берлине. На русском языке ИР так и не был издан отдельной книгой. Все, что есть в распоряжении читателей, — это первая глава, вышедшая в 2014 году в издательстве Common Place.
Русскоязычная судьба ИР, написанного Лукачем в середине 1930-х годов в Москве, оказалась более сложной. В 1937—1938 годах работа был опубликована по частям в журнале «Литературный критик»: Лукач рассчитывал издать ИР отдельной книгой, но осуществить задуманное не удалось — отчасти из-за отрицательного отзыва Виктора Шкловского, рецензировавшего рукопись в издательстве. Только в 1955 году, когда Лукач уже жил в Будапеште, он смог опубликовать эту работу на немецком языке в Восточном Берлине. На русском языке ИР так и не был издан отдельной книгой. Все, что есть в распоряжении читателей, — это первая глава, вышедшая в 2014 году в издательстве Common Place.
Лукач в Москве
Весной 1933 года, вскоре после прихода нацистов к власти, Лукач покинул Берлин и переехал в Москву. Это был не первый его визит в столицу СССР, он уже жил здесь с 1929-го по 1931 год. Лукач тогда работал в Институте Маркса — Энгельса — Ленина, где познакомился с философом Михаилом Лифшицем, на долгие годы ставшим его ближайшим другом и единомышленником.
Второй московский период оказался очень продуктивным для Лукача. Помимо ИР он написал и издал книгу «Литературные теории XX века и марксизм» (1937) и сборник статей «К истории реализма» (1939). Лукач регулярно печатался в журналах «Литературный критик», «Интернациональная литература» (он выходил тогда на четырех языках: русском, английском, французском и немецком) и в немецком эмигрантском издании Das Wort («Слово»).
В 1930-е годы Лукач вместе с Лифшицем входил в неформальную группу литературоведов и философов, сложившуюся вокруг «Литературного критика». Основываясь на разрозненных высказываниях классиков марксизма о литературе и искусстве, участники этой группы работали над созданием особой «марксистско-ленинской эстетики». В середине 1930-х годов в СССР шла дискуссия о том, какой должна быть литература социалистического реализма. На повестке дня стоял вопрос о романе — «хребте соцреализма», по выражению Катерины Кларк.
Проблематикой романа как художественной формы Лукач заинтересовался еще в домарксистский период. В 1916 году он опубликовал эссе «Теория романа», где вслед за Гегелем противопоставлял роман эпосу и рассматривал первый как своеобразное продолжение эпической традиции, воплощающее «трансцендентальную бездомность» человека в современном мире.
В 1930-е годы Лукач скорректировал свои взгляды времен «Теории романа», но полностью от них не отказался. В декабре 1934 — январе 1935 года он выступил в Коммунистической академии с докладом «Проблемы теории романа». Лукач опирался на все ту же оппозицию эпоса и романа: если первый характерен для докапиталистического общества, «где примитивное единство родового строя является еще живым и определяющим форму социальным содержанием», то второй — для общества буржуазного.
Лукач выделяет несколько основных этапов в развитии европейского романа и среди наиболее выдающихся его представителей называет Вальтера Скотта, Бальзака и Гёте, стремившихся изобразить свою «эпоху как целое, со всеми ее сложившимися противоречиями». Во второй половине XIX века, когда буржуазия в условиях обострения классового антагонизма перешла к реакции, началось разложение романной формы. Вместо того, чтобы изображать общество как целое, писатели начали уделять все большее внимание субъективным переживаниям и отдельным ярким деталям. Кульминацией этих тенденций стала литература эпохи империализма: Джойс, Пруст и другие модернистские авторы.
В ходе пролетарской революции и социалистического строительства «объективные причины деградации человека» уничтожаются, и вслед за этим преображается роман. Классическая его форма, заимствованная из буржуазной культуры, сближается с эпосом. Но, как подчеркивает Лукач, речь идет не о возвращении к прошлому, а о появлении новой эпической формы, зачатки которой он обнаруживает в произведениях «лучших романистов социалистического реализма».
Как отличить хороший исторический роман от плохого
 Комиссар Венгерской советской республики Георг Лукач в 1919 году. Источник
Комиссар Венгерской советской республики Георг Лукач в 1919 году. Источник
В «Историческом романе» Лукач в целом придерживается той же периодизации истории жанра. Появление исторического романа он относит к началу XIX века, когда под влиянием Французской революции и Наполеоновских войн у жителей Европы пробудился интерес к истории. С одной стороны, они начали осознавать историческую изменчивость политических и социальных институтов, а с другой — рассматривать историю своей страны в рамках всемирной истории. В философии выражением этого переворота стал Гегель с его принципом историзма. В литературе Лукач отводит аналогичное место Вальтеру Скотту, создавшему исторический роман в его классической форме: «Историческому роману до Вальтера Скотта не хватает именно исторического мышления, другими словами, понимания того, что особенности характера людей вытекают из исторического своеобразия их времени [курсив оригинала]».
Лукач, анализируя произведения Скотта, выделяет несколько отличительных черт классического исторического романа. Перечислю основные из них:
1. Типичные герои
Главный герой скоттовских романов — «средний» человек, типичный для своей эпохи и социальной среды. Он выступает посредником между общественными силами, борьба которых и составляет основное содержание романа. «Великие исторические личности» если и появляются в романе, то лишь в качестве второстепенных персонажей и всегда изображаются как представители широких социальных течений: «Скотт показывает, как великие люди порождаются противоречиями эпохи, и он никогда не выводит, подобно романтическим поклонникам героев, характер эпохи из характера ее выдающихся представителей».
2. Правильно выбранный масштаб
Писатель должен не просто описывать крупные исторические события, его задача — воссоздать «художественными средствами образы людей, которые в этих событиях участвовали». Поэтому незначительные на первый взгляд исторические сюжеты оказываются более удобным материалом, чем «монументальные драмы мировой истории». В первом случае автор может прописать мотивацию персонажей и изобразить окружающую их среду, не обременяя читателей лишними подробностями.
3. «Народность»
Значительные исторические перевороты Скотт всегда изображает как изменения в повседневной жизни народа. Лукач замечает, что именно это обстоятельство делает его романы по-настоящему «народными» — даже несмотря на то, что они не рассказывают исключительно о «жизни угнетенных и эксплуатируемых». Важен и выбор персонажей: Скотт изображает судьбы «простых людей», воплощающих в себе народный героизм; если представители господствующих классов играют в его произведениях положительную роль, то в основном благодаря своей связи с «народом».
4. Историческая необходимость
Персонажи и отдельные сюжеты романов Скотта могут быть выдуманными, но это не отменяет их общей «исторической правдивости». Все благодаря тому, что писатель демонстрирует «историческую необходимость», властвующую над поступками героев — не фатум, лежащий за пределами человеческого понимания, а социальные и экономические условия: «Историческая необходимость у Вальтера Скотта всегда результат, а не предустановленность, и в художественном смысле это всегда трагическая атмосфера эпохи, а не предмет для размышлений писателя».
5. Связь прошлого и настоящего
«Без живого отношения к современности невозможно художественное воссоздание истории», — постулирует Лукач. Романист воспринимает прошлое как «предысторию настоящего», и это позволяет ему оживить те «общественные и человеческие силы, которые... сформировали нашу жизнь такой, какая она есть». Такой способ актуализации прошлого Лукач противопоставляет наивной модернизации, «когда намеки на отдельные события наших дней переряживаются в исторический костюм, и персонажи, облаченные в старинные одежды, мыслят и чувствуют как современники писателя».
Среди других писателей, создававших классические исторические романы, Лукач называет Бальзака и Льва Толстого. Если первый превратил исторический роман «в историзированное изображение современности» (имеется в виду масштабная картина французского общества в «Человеческой комедии»), то второй написал «Войну и мир», ставшую «гениальным возрождением и обновлением исторического романа... скоттовского типа».
Во второй половине XIX века одновременно с общим кризисом «буржуазного реализма» начинается упадок исторического романа. Писатели теряют связь с прошлым, перестают видеть в нем «предысторию настоящего». Переломным Лукач считает роман Флобера «Саламбо» (1862), где исторический материал используется лишь в качестве экзотического фона. Вместо того, чтобы изображать конфликты и характеры, типичные для своего времени, Флобер осовременивает их и нарушает принцип историзма. В произведениях писателей конца XIX — начала XX века эта тенденция усиливается. Одни из них говорят о непознаваемости прошлого, другие — занимаются «декоративным археологизмом», то есть ограничиваются изображением отдельных исторических фактов вместо того, чтобы изображать жизнь общества в целом. Лукач связывает эту перемену с общим кризисом буржуазной идеологии. В первой половине XIX века буржуазия, возглавлявшая борьбу против феодализма, играла прогрессивную роль и была заинтересована в познании мира художественными средствами. Теперь, когда «пролетариат вышел на арену истории», она лишь защищает завоеванные позиции. Про Дмитрия Мережковского, автора серии романов о русской истории, Лукач пишет: «Исторический роман служит ему средством для пропаганды реакционной демагогии и злобной антинародности».
Прогресс и историзм
В ИР Лукача интересует не только трансформация литературной формы, но и стоящие за ней изменения в европейском историческом сознании, поэтому имеет смысл поговорить о двух важных для его работы понятиях — прогрессе и историзме.
По мысли Лукача, появление исторического романа было связано с возникновением после Французской революции нового представления о прогрессе. В отличие от эпохи Просвещения, прогресс больше не рассматривался как абстрактная «борьба гуманистического Разума против феодально-абсолютистской Неразумности». Историки, а также социальные и политические мыслители начинают осознавать противоречивую природу прогресса и обращать все большее внимание на роль классовой борьбы в истории. Как пишет Лукач, такие взгляды на прогресс нашли выражение в философии Гегеля, который рассматривал историю как диалектическое «развертывание» мирового духа, ведущего «бесконечную борьбу против самого себя», и доказывал закономерность и органический характер революций (в том числе и Великой французской).
Аналогичное восприятие прогресса Лукач обнаруживает и у Вальтера Скотта, который изображает эпоху промышленной революции и подъема капитализма, разорившего многие группы населения. Писатель сочувствует им, но осознает неизбежность изменений: «Скотт не принадлежит ни к числу людей, восторженно славящих капитализм, ни к его страстным и патетическим обличителям; посредством исторического исследования всего прошлого Англии он пытается... отыскать „середину“ между борющимися крайностями <...> самый прогресс у него предстает в виде противоречивого процесса, движущей силой и материальной основой которого являются противоречия общественных сил, противоречия между классами и нациями».
Во второй половине XIX века происходит не только упадок европейского романа — меняется и само представление о прогрессе. По мнению Лукача, эти процессы взаимосвязаны. Осознав, какую опасность несет в себе борьба классов, «буржуазные идеологи» начинают изображать историю как процесс бесконфликтной и линейной эволюции, отказавшись от «попытки диалектического истолкования общественных противоречий».
Развивая свою мысль, Лукач делает парадоксальный на первый взгляд вывод: в середине XIX века, когда история начала оформляться в качестве самостоятельной дисциплины, произошел «распад историзма». Знаменитая формула немецкого историка Леопольда фон Ранке «все эпохи равны перед лицом бога» означала, как пишет Лукач, отказ от поиска какого-либо направления и смысла в историческом процессе, что, в свою очередь, разрывало связь между прошлым и настоящим: «В истории все меньше видят предысторию современности... Поэтому утрачивается и живой интерес к усилиям историков предыдущего периода постичь подлинное своеобразие исторических этапов, их объективную сущность. Поскольку историков мало интересует „неповторимость“ прошедших событий, они берут на себя задачу модернизации их. Историки пришли к убеждению, что будто основы экономической и идеологической структуры прошлого были те же, что и в современности».
Действительно, в середине и второй половине XIX века историки начали отказываться от спекулятивной философии истории, подрывавшей их претензии на научность. Вместо того, чтобы создавать масштабные модели, объясняющие весь ход мировой истории (в духе Гегеля или Маркса), исследователи сосредоточились на анализе конкретных, преимущественно текстовых источников, рассчитывая найти в них «истину» о прошлом. По мнению Лукача, именно отказ от философии истории сыграл с историками злую шутку — лишил возможности познавать прошлое во всей его полноте и привел к анахроничности. По этой причине художественные произведения Скотта, который в изображении Лукача оказывается квазигегельянцем, более «правдивы» с исторической точки зрения, чем якобы научные работы профессиональных историографов.
Лукач здесь не просто защищает свой гегельянско-марксистский взгляд на историю — как мы увидим, тезис о противоречивой, диалектической природе прогресса является ключевым для всей его историко-литературной концепции.
 Георг Лукач в Будапештском университете, конец 1940-х. Источник
Георг Лукач в Будапештском университете, конец 1940-х. Источник
Писатели-антифашисты спасают исторический роман
Заключительные разделы работы посвящены современному (то есть межвоенному) историческому роману. Лукач в основном анализирует произведения немецко- и французскоязычных авторов и констатирует все более глубокий кризис исторического романа.
Благодаря знанию народной жизни такие авторы, как Скотт, Бальзак и Толстой, создавали «исторически правдивые» произведения. Современные буржуазные писатели, напротив, оторваны от народа и «боязливо цепляются за фотографически точно воспроизводимые факты, чтобы окончательно не потерять связь с реальностью». Популярность набирает композиция, при которой писатель монтирует отдельные эпизоды, подвергая их минимальной обработке: «Сочетание отдельных элементов, составляющих произведение, окончательно отчуждается в нем [монтаже] от объективной внутренней диалектики развития изображаемых людей и их общественной судьбы». Лукач исходит из того, что отдельные факты, даже если они взяты из «реальной» жизни, не создают реалистического произведения. В его понимании реализм предполагает выявление основных тенденций общественной жизни, которые должны найти выражение в «типичных характерах», действующих в «типичных обстоятельствах» (формула Энгельса). Кроме того, монтажная композиция воспроизводит отчужденность и фрагментированность жизни в капиталистическом обществе, с которыми должно бороться подлинное искусство.
Лукача также беспокоит мода на исторические биографии, герои которых изображаются в отрыве от народа. По его мнению, такие произведения создают и поддерживают ложное представление о том, что историю творят «великие люди», а не классы и нации.
Но все не так плохо. Лукач считает, что у исторического романа есть шансы на возрождение и возлагает надежды на европейских писателей-антифашистов: Стефана Цвейга, Ромена Роллана, Томаса и Генриха Маннов, Лиона Фейхтвангера и других. Чтобы понять, почему Лукач придает именно этим авторам такое значение, нужно вспомнить, в каких обстоятельствах создавался ИР.
В середине 1930-х годов Советский Союз, опасаясь усиления гитлеровской Германии, активно искал союзников на Западе. В 1935 году на конгрессе Коминтерна было объявлено о переходе к политике Народного фронта — объединении со всеми демократическими силами (в том числе и «буржуазными»), выступающими против фашизма. Западные интеллектуалы, сочувственно относившиеся к левым идеям, и прежде с интересом смотрели на Советский Союз, теперь же многие из них стали воспринимать Москву как главный оплот антифашизма.
Перечисленные авторы в 1930-е годы с разной степенью интенсивности взаимодействовали с советской стороной. Их произведения переводились на русский язык, многие из них публично заявляли о своей поддержке действий Москвы. Роллан и Фейхтвангер даже посетили СССР и удостоились встречи со Сталиным.
Автор ИР приветствует сближение «демократически настроенных писателей» и Советского Союза. Столкнувшись с подъемом фашизма, который Лукач считает крайним выражением иррациональности капитализма, они начинают освобождаться от «буржуазных иллюзий» и осознавать, что единственная реальная альтернатива — это социализм. Но для того, чтобы создавать по-настоящему «народные» исторические романы, этого недостаточно. Писатели-антифашисты должны также вернуться к традициям европейского реализма первой половины XIX века. Лукач говорит о политическом значении исторического романа: «Изображение прежних великих битв за свободу, великих борцов за народ должно показать современникам пути, которыми шло и должно идти человечество... [дать им] цель и идеал для продолжения борьбы против фашистского гнета».
В размышлениях Лукача интересны два момента. Первый: он утверждает, что методы реализма XIX века более адекватны текущей политической и социальной ситуации, чем модернистское письмо. В культурном плане Лукач занимает консервативную позицию, и его консерватизм (здесь я отошлю к докладу Галина Тиханова, сокращенная расшифровка которого недавно была опубликована на «Горьком») опирается на представление о нелинейности исторического процесса: более «современное» не обязательно означает более «прогрессивное». Но Лукач не призывает к реставрации прошлого. Скотт, Бальзак, Толстой и другие «великие реалисты» принадлежали к традиции революционной демократии и рассматривали «народную жизнь как главное содержание и единственную основу истории». Но при этом они придерживались консервативных, а часто даже реакционных политических взглядов, из-за чего в их произведениях «правильное» понимание исторического процесса соседствовало с «иллюзиями» и «заблуждениями», характерными для той эпохи. Современные писатели-антифашисты изживают «буржуазные предрассудки» и потому могут вывести традиции демократизма и реализма в литературе на новый уровень. Движение «назад» парадоксальным образом оказывается движением «вперед». Это странное смешение времен заметно даже в построении фраз: «Вся литературная продукция прошлых лет носит на себе следы медленного возврата к традициям революционного демократизма. Но, несмотря на медленность, это все-таки движение вперед...»
Второй момент: Лукач подчеркивает взаимосвязь между фабулой и композицией романа и теми политическими и социальными условиями, в которых существует писатель. Разбирая роман Генриха Манна «Генрих IV» (дилогия, состоящая из романов «Молодые годы короля Генриха IV» и «Зрелые годы короля Генриха IV»; обе книги были опубликованы в 1935 году), где в центре повествования находится фигура французского короля, Лукач замечает, что такое композиционное решение продиктовано тем, что «из жизненных обстоятельств, в которых находился высший слой интеллигентов империалистического периода, естественно вырастала вера в то, что отъединенный от общества, оппозиционный к обществу интеллигент — это и есть истинный носитель гуманистических идеалов». По мере того как писатели будут преодолевать отчужденность от широких масс, будет изменяться и их художественная практика, а «биографическая форма романа, народившаяся в последние годы на Западе, тихо окончит свои дни». Этот аргумент очень важен для Лукача: он стремится доказать, что художественная форма не является идеологически «нейтральной». Следовательно, модернистские приемы (вроде того же монтажа), порожденные кризисом буржуазии, не могут быть перенесены в новую социалистическую литературу, горизонты которой Лукач намечает в ИР.
Когда речь заходит о Лукаче в 1930-е годы, встает вопрос: действительно ли он верил в то, о чем писал, или просто следовал за политической конъюнктурой? Да, ИР и другие его работы того времени соответствовали советской культурной политике с ее установками на «освоение классического наследства» и поиск союзников среди западных антифашистов. Но Лукач, придерживаясь «генеральной линии», одновременно развивал свои идеи более раннего периода, ставшие неожиданно актуальными в сталинском СССР. Можно сказать, что он оказался в нужное время в нужном месте. Или наоборот — в ненужное время в ненужном месте.
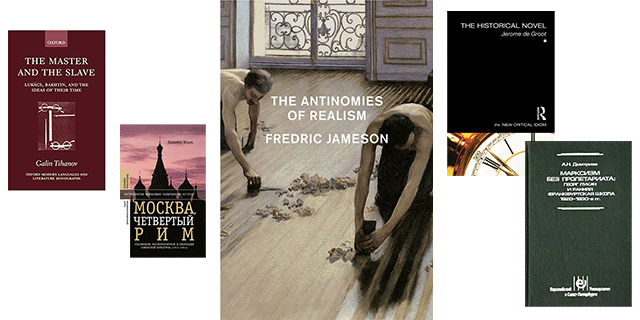 Что еще почитать по теме:
Что еще почитать по теме:
Tihanov G. The Master and the Slave: Lukács, Bakhtin, and the Ideas of their Time. Oxford: Oxford University Press, 2000
Если Лукач в 1930-е годы был одной из ключевых фигур советского литературоведения, то Бахтин провел большую часть десятилетия в ссылке, не имея возможности публиковаться и активно участвовать в научной жизни. Галин Тиханов в своем компаративном исследовании показывает, что при всей несхожести их жизненных траекторий у двух теоретиков было много общего: оба они испытали существенное влияние немецкой идеалистической философии и опирались на гегелевскую оппозицию эпоса и романа. Кроме того, Бахтин был хорошо знаком с идеями Лукача и, как доказывает Тиханов, полемизировал с ними в своих работах.
О самом ИР Тиханов говорит мало, зато подробно анализирует лукачевскую концепцию реализма и уделяет особое внимание московским литературным дискуссиям 1930-х годов, в которых тот принимал участие.
Кларк К. Москва, четвертый Рим: сталинизм, космополитизм и трансформация советской культуры (1931–1941). М.: Новое литературное обозрение, 2018
В масштабном исследовании советской культуры 1930-х годов Катерина Кларк сосредотачивает внимание на ее космополитическом измерении, которое часто игнорируется исследователями. Она показывает, как параллельно с усилением репрессий советские лидеры и интеллектуалы пытались превратить Москву в центр транснационального антифашистского сообщества. Лукач, которого Кларк относит к числу «странствующих левых интеллектуалов», становится одним из главных героев книги. «Москва, четвертый Рим» позволяет понять, в каком контексте создавался ИР, и ответить на вопрос о том, почему в 1930-е годы исторические сюжеты играли столь важную роль в советской культуре.
Jameson F. Antinomies of Realism. London, New York: Verso, 2013
Я уже писал о том, что Фредерик Джеймисон сыграл важную роль в рецепции ИР на Западе. Несколько лет назад он вернулся к изложенным в нем идеям в заключительной главе указанной книги, посвященной истории реализма. Джеймисон ищет ответ на вопрос о том, возможен ли исторический роман в современных условиях, и фактически занимается пересборкой лукачевской теории. Главу из книги Джеймисона интересно читать параллельно со статьей Перри Андерсона «Исторический роман: от прогресса к катастрофе» (она опубликована на русском как введение к первой главе ИР, выпущенной издательством Common Place), в которой также предлагается новый взгляд на теорию Лукача.
De Groot J. The Historical Novel. London and New York: Routledge, 2010
Небольшая (чуть больше 200 страниц) книга Джерома же Гроота — отличное введение в исследования исторического романа. Автор рассказывает об истории жанра начиная с романов первой половины XVIII века и заканчивая постмодернистской и современной литературой. Де Гроот также разбирает основные теоретические подходы к историческому роману и подробно останавливается на книге Лукача.
Дмитриев А. Н. Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франкфуртская и школа, 1920–1930-е гг. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2004
В книге историка Александра Дмитриева сам ИР не анализируется, но не включить ее в эту небольшую подборку было бы ошибкой. Дмитриев пишет о том, как в межвоенный период марксизм из «политической и мировоззренческой доктрины рабочего движения» превратился в социальную теорию, а также о том, какую роль сыграл в этом Лукач и другие немецкоязычные интеллектуалы. Нам же важно, что в книге «Марксизм без пролетариата» подробно документируется интеллектуальная трансформация Лукача в 1930-е годы: благодаря этому можно понять, как он пришел к идеям, изложенным в ИР.